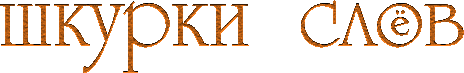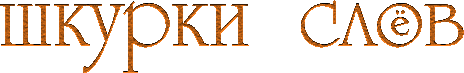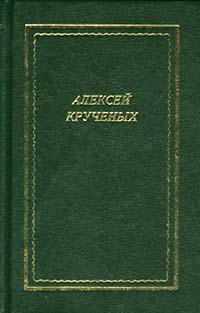Евгений Лесин
Павлова В. Совершеннолетие. - М.: ОГИ, 2001. - 352 с. 1000 экз. (п) ISBN 5-94282-055-4
Вера Павлова. Совершеннолетие - поэтическое, естественно, а потому без кавычек. Дождались. В книге 18 глав. 18 лет. Первая называется "1983", последняя - "2000". Остальные, соответственно, в промежутке. Стихи на каждый год. "Наиболее полное собрание стихотворений". Избранное, но в то же время почти ПСС. Многое публикуется впервые. Такая книга в принципе невозможна. Три с половиной сотни страниц. На каждой - несколько стихотворений. И все - хороши! Я нашел (а искал долго, упорно, специально! ) только одно плохое: "Жила я раньше просто так. / Теперь болею за "Спартак" (глава "1983"). И то лишь потому, что Прекрасная дама должна болеть за киевское "Динамо" (особенно - на Кубке Содружества, но ведь в 83-м никто и не знал, что СССР развалится). "Совершеннолетие" очень опасная книга - для автора, конечно. После нее - трудно жить, трудно писать что-то новое, что-то принципиально новое. А ведь придется.
Говорить про Павлову, что она уникальна - все равно, что искать в Бразилии Педров. Хвалить ее стихи все равно, что утверждать: Чайковский - композитор, безалкогольное пиво - извращение etc. Цитировать можно только наугад, ибо выбирать нелепо. Нельзя выбирать между спиртом и водкой! И то и другое настолько вкусно, что выбор неосуществим. "С левой ноги марш. / С правой ноги стой. / Просится Отче наш. / Плачется Боже мой". Это, кстати, считалка. Павлова любит - считалки, припевки, молитвы, акафисты, "нежности мурашки" (глава "1998"). Приговорки, фразы, реплики: "Божья коровка, лети на небеси, / хлеба насущного нам принеси, / черного и белого. / Но избави нас от горелого" (глава "2000"). Нежности мурашки… "Обнажена, и руки-ноги настежь - / ну что еще с себя я не сняла? / А это ты на мне, и свет мне застишь…" (глава "1994"). И, читаем последнюю строчку, жизнь, как из троллейбуса видна. Кстати, о нежности и мурашках. "Там где копошились мурашки, / старчески желтеют веснушки - / может быть, мурашек какашки, / может быть, судьбы завитушки…" (глава "1999"). Вся жизнь человеческая - мурашки и завитушки. Мурашки встреч, завитушки разлук, мурашки радостей, завитушки обид… И какашки веснушек - как завитушки любви. Которая, подобно жизни, видна, как из троллейбуса…
Андрей Мирошкин
Русская поэзия Китая: Антология / Сост. В. П. Крейд, О. М. Бакич. - М.: Время, 2001. - 720 с. - (Поэтическая библиотека. Русская зарубежная поэзия). 3000 экз. (п) ISBN 5-94117-009-2

Сборники русских поэтов выходили в 20-40-е годы в Шанхае, Тяньцзине, Пекине, но все же центром литературной эмиграции на Дальнем Востоке до самого конца Второй мировой войны оставался Харбин. Вообще, среди столиц русского Зарубежья у этого города - особая судьба. Он и до Октября был наполовину наш: через Харбин проходила железная дорога Чита - Владивосток (легендарная КВЖД), на которой работали тысячи российских подданных. В межвоенные десятилетия большинство полумиллионного харбинского населения составляли наши соотечественники, а в 20-30-е годы здесь бок о бок (и практически бесконфликтно) жили граждане СССР и "белоэмигранты". Ничем подобным не могли похвастать ни Париж, ни Берлин, ни Белград.
Западноевропейские русские относились к дальневосточникам-"провинциалам" с долей высокомерия. Монпарнасские снобы полагали, что цвет нации обосновался в богемном Париже и в университетской Праге, а в Харбине живут лишь недобитые белые атаманы и приморские обыватели. Виной тому был недостаток информации: изданные на Дальнем Востоке книги и журналы редко добирались до Европы. Харбин был для русских парижан почти тем же, чем для средневековых европейцев далекий полусказочный Китай. Лишь к концу 30-х в Европу начали просачиваться сведения о культурной жизни восточной русской колонии. Однако исследовательские работы о литературе этого эмигрантского анклава появились лишь много десятилетий спустя, фактически в наши дни.
Да, в Харбине и Шанхае не было поэтов уровня Ходасевича, Поплавского и Цветаевой. Лирика харбинцев и впрямь несколько "провинциальна" на фоне подчеркнуто столичной, урбанистической "парижской ноты". Прошедшие "все круги декаданса", парижские поэты на голову мастеровитее и амбициознее. Даже собранные ныне в представительную антологию, стихи 58 лучших поэтов русской Маньчжурии не производят какого-то особенно сильного впечатления. Пожалуй, лишь несколько авторов могли на равных конкурировать с кумирами парижской "Ротонды". Но как уникальный исторический и культурный феномен русская поэзия в Китае достойна уважения и тщательного изучения. По концентрации поэтов "на душу населения" это был, после Парижа, главный центр литературной эмиграции. За неполных три десятилетия русские харбинцы и шанхайцы выпустили более полутора сотен стихотворных сборников и альманахов, здесь выходило множество литературных журналов, действовали поэтические объединения. В Китае существовала русская литературная среда, отсутствовавшая - в силу разных причин - в большинстве центров Зарубежья. В стихах преобладала специфическая восточная тематика - сопки, тайфуны, драконы, рикши, лотосы, "тонкие стебли гаоляна".
И мифы о Гражданской войне, забросившей поэтов на берега Сунгари, здесь тоже были свои, особенные. Если русские парижане "уходили за море с Врангелем", бежали через эстонскую границу с остатками армии Юденича, то дальневосточники воевали в частях Колчака, атамана Семенова, а то и барона Унгерна. В отличие от либерально настроенных поэтов Парижа, здешние литераторы вступали в Русскую фашистскую партию, особенно расцветшую при японской оккупации. Впрочем, неизбывная тоска по России объединяла "правый" Восток и "левый" Запад: "Я - до костного мозга русский / Заблудившийся аргонавт", - писал Валерий Перелешин, после советизации Китая перебравшийся в Бразилию, где и умер в 1992 году. Судьба лучшего поэта-дальневосточника, Арсения Несмелова, оказалась трагичнее: после прихода в Харбин Красной армии он был арестован СМЕРШем и умер в пересыльной тюрьме под Владивостоком. Иные уехали в США, Парагвай, Аргентину, Австралию… Репатриантов же ждали лагеря, жизнь под надзором в глухой провинции, отказ от литературного труда. (Исключение - "возвращенец" 1926 года Сергей Алымов: отбыв срок на Соловках, он стал еще до войны преуспевающим поэтом-песенником, сочинителем бодрых маршей про приамурских партизан.) Биографии поэтов, приведенные в антологии, впечатляют едва ли не больше, чем собственно стихи. Кажется, в западной русской эмиграции не было такого обилия причудливых и драматичных странствий.
Данила Давыдов
Волохонский А. Тивериадские поэмы. - М.: ОГИ, 2001. - 112 с. Тираж не указан. (о) ISBN 5-900241-028-7
Николев А. Елисейские радости. - М.: ОГИ, 2001. - 64 с. Тираж не указан. (о) ISBN 5-94282-025-2
Появление книги Андрея Николева в поэтической серии клуба "Проект ОГИ" поистине беспрецедентно. Приходилось уже писать о концепции этой серии, представляющей ведущих современных поэтов независимо от их возраста. В этом отношении даже посмертный сборник Яна Сатуновского не выглядит исключением; Сатуновский - одна из ключевых фигур послевоенной неподцензурной поэзии, его письмо и сегодня ощущается как актуальное.
Иное дело Николев (псевдоним прошедшего через лагеря филолога-классика Андрея Николаевича Егунова; 1895-1968) - представитель литературного поколения, переходного от уничтоженного довоенного авангарда к послевоенному андеграунду. Место Николева в до сих пор ненаписанной истории новой и новейшей русской литературы - где-то рядом с обэриутами и Георгием Оболдуевым, а не с лианозовцами или "ахматовскими сиротами". Парадоксальным образом предшественники становятся известны позднее последователей.
Поэтика Николева близка Вагинову, но, как пишет Глеб Морев в предисловии к "Елисейским радостям", "в отличие от Вагинова, изгнавшего из своей венчанной скорбью поэзии (само) иронию, Николев, работая в ином языковом регистре, напротив, проникнут отчаянной "шутливостью", которая, по словам самого автора, лишь "прикры[вает] мучительность переживаний"…". С этим нельзя не согласиться, но, быть может, то, что отдаляет Николева от Вагинова, сближает его с поздним Введенским: "Загробный вьется мотылек, / то близок, то почти далек, / с его невзрачного лица / без восклицанья, без исканья / слетает липкая пыльца". Будучи поэтом трагически незамеченным, да и теперь, пожалуй, заслоненным авторами более мощными, Николев - вместе с Кузминым и обэриутами - безусловно оказывается одним из "пратекстов" многих петербургских поэтов-нонконформистов второй половины века, таких, как, например, Леонид Аронзон или Александр Миронов.
К этой плеяде ярких авторов питерского андеграунда относится и Анри Волохонский, чья книга "Тивериадские поэмы" также вышла в ОГИшной поэтической серии. Волохонский - легендарный персонаж, между прочим, автор текста "Город золотой", знаменитого благодаря Гребенщикову. Стихи Волохонского филигранны, это именно очень ловко сделанные тексты. Так, довольно пространная поэма "Ручной лев" написана сложной авторской ("волохонской", так сказать) строфой. Вообще, в этих стихах чувствуется какая-то избыточность, чрезмерность - впрочем, вовсе не идущая во вред книге: "Я корпел, я совершенствовал, я совершал себя понемногу, / Я вырабатывал эту чистую форму спирали / Свивая время в бараний рог! ". Метод письма Волохонского восходит, в конечном счете к Хлебникову (которому посвящен один из лучших текстов в сборнике - "Известь"), но хлебниковская стихийность, текучесть преобразуется здесь в строгую монументальность форм, безупречную демонстрацию приема - как если бы к будетлянству Хлебникова была привита брюсовская научная поэзия, его, по выражению М. Л. Гаспарова, "академический авангардизм".
Книги Николева и Волохонского должны стать заметными событиями литературного процесса, опровергая строку последнего: "Слава тому кто забыт! ".
Данила Давыдов
Горнунг. Б. Поход за временем. Кн. 1: Стихи и переводы. - М.: РГГУ, 2001. - 192 с. - (Библиотека Мандельштамовского общества. Том 2). 1000 экз. (о) ISBN 5-7281-0363-4
Горнунг. Б. Поход за временем. Кн.2: Статьи и эссе. - М.: РГГУ, 2001. - 510 с. - (Библиотека Мандельштамовского общества. Том 2). 1000 экз. (о) ISBN 5-7281-0363-4
Сейчас почти все фигуры первого и даже второго ряда, составившие костяк отечественной словесности начала минувшего века, опубликованы (пусть не всегда с должной полнотой и текстологической аккуратностью). Настало время издания авторов, составлявших фон, культурную среду - тех, которые заметны не только как "знакомые великих людей", но и сами по себе. Борис Горнунг, известный лингвист и литературовед, предстает в двухтомнике не в столь академических качествах. Впервые в большем объеме представлены его оригинальные стихи - ранние и последних лет жизни, а также переводы (из Аполлинера, Малларме, Гейне…).
Поэтическая судьба Горнунга нетривиальна. Его единственная прижизненная книга, давшая название двухтомнику, вышла, фактически, самиздатовским способом - в 1925-ом, задолго до того, как феномен самиздата явлением духовной жизни. Писание стихов оставалось для Горнунга всегда исключительно приватным делом - и это при том, что его ценили Мандельштам, Лившиц, Кузмин. "Мой потаенный путь колеблется в зените…" - эта потаенность, сформулированная еще в двадцатых, предопределила судьбу горнунговского стихотворного наследия, лишь сейчас вышедшего на поверхность.
В другом томе - непубликовавшиеся эссе и статьи; здесь же - незаконченные фрагменты воспоминаний, пожалуй (да не прозвучит это кощунственно), наиболее интересные тексты из всех представленных. Горнунг, рассуждая об отличиях своего поколения - того самого, которое на Западе было прозвано "потерянным" - от предыдущих, с необычайной четкостью формулирует, в сущности, вообще закон смены литературных (и, шире, культурных) поколений: те, от кого отталкиваются, могут оказаться ближе тем, кто оттолкнется от вас. Это лишь звучит как банальность, но в действительности описывает смену умонастроений и мод лучше, чем иные теории.
Публикация литературного наследия Бориса Горнунга представляется литературным фактом большой важности: знакомство с фигурами не первостепенными, но отличавшимися "лица необщим выраженьем" создает стереоскопическую картину эпохи - куда более достоверную и живую, нежели может нарисоваться при знакомстве с одними только гениями.
Данила Давыдов
Айги Г. Мир Сильвии - М.: Издательство а и б, 2001. - 40 с. 500 экз. (о) ISBN 5-7187-0299-3
Новая книга Геннадия Айги очень изысканна, издана не без оглядки на искусство бук-арта (следует отметить работу оформителя Ильи Бернштейна). Это не поэтический сборник, это своего рода проект: в предисловии сообщается, что Айги жил некоторое время в Париже, в некой семье. Сильвия, маленькая дочка женщины, приютившей Айги, "протянула поэту новенькую записную книжку с изображением трав на обложке… и попросила его написать несколько слов на память". Таким образом, "Мир Сильвии" - жест не только и, может быть, не столько художественный, сколько приватный, интимный.
Айги заполнил 32 страницы книжки за 32 минуты. Прочитывается книга менее чем за минуту. На каждой странице - по одной строчке. Непросто сказать - единое ли это стихотворение или сборник одностиший. Скорее, это всё-таки целостный текст; каждая строчка - некая номинативная фраза, причем первая по счету начинается со слова "итак": "итак вступительное слово ветра // рыцарские доспехи солнца // утреннее "что ты толкаешься" подушки // недоумение зеркала // сердитые восклицания зубной щетки // весёлый бред мыла...". Все эти мимолетности, кажимости, ускользающие моменты и составляют мир девочки Сильвии, как его додумал и дочувствовал Айги. Недаром последняя "составляющая" мира Сильвии - "вечное "до свидания" дяди Айги".
Чувствуется, что книга написана в Париже - и не только из-за строки (или всё-таки моностиха?) "верленовый монолог неба": Верлена здесь меньше, чем Аполлинера, подстрочником из которого звучит строка "мама переводчица Господа".
Перелистывание этой книги в чем-то подобно чтению карточек Льва Рубинштейна. И тут, и там - каждый листик и самодостаточен, и невозможен без целого. Но Айги, в отличие от Рубинштейна, нисколько не концептуалист. Он не показывает мертвенность языка, не сталкивает дискурсы, с тем, чтобы они разоблачали друг друга - напротив, он монологичен, хотя и говорит голосами предметов, окружающих маленькую Сильвию, он конструирует утопический мир детства, вероятно, не существующий или, по крайней мере, лишенный для самих детей всякой поэтичности.
Как бы то ни было, "Мир Сильвии" - хороший подарок не только для Сильвии.
Андрей Мирошкин
Китс Д. Эндимион: Поэма / Пер. с англ Е. Фельдмана. - М.: Время, 2001. - (Триумфы). 3000 экз. (п) ISBN 5-94117-020-3

Пару лет назад в России вышел роман британца Питера Акройда "Чаттертон", а теперь на русский язык перевели и поэму Джона Китса "Эндимион" (1818), посвященную тому же легендарному поэту ХVIII века, стилизатору и самоубийце. Наследие Китса сравнительно невелико, но "Эндимион" почему-то до сих пор нередко "пропускают" даже английские издатели, считая поэму слишком длинной и запутанной, а ее рифмы - чересчур вычурными. На русском же прежде печатались лишь небольшие фрагменты: к примеру, первые 22 строки поэмы, и то весьма вольно, перевел Борис Пастернак ("Прекрасное пленяет навсегда…"). Несколько строф переводил и публиковал еще в советских антологиях Евгений Витковский, член редколлегии серии "Триумфы" и автор послесловия к нынешнему изданию.
Античный миф о любви лунной богини Дианы к пастуху Эндимиону - один из самых известных. Китс, впрочем, весьма вольно трактует этот сюжет. Более того, он сознательно смешивает этот миф с историей о Венере и Адонисе (вспомним, что Шелли посвятил памяти Китса поэму-плач "Адонаис"). Принято считать, что это сугубо романтический прием, подчеркивающий тщетность любовных усилий. Впрочем, этим довольно сложная - и в формальном, и в мифосимволическом отношении - поэма не исчерпывается.
"Эндимион" выстроен четко и продуманно: четыре части по тысяче строк в каждой; в начале каждой - гимн: Прекрасному, Любви, Луне, Музе. Четыре части соответствуют четырем фазам Луны. И в целом, по словам Витковского, "перед нами не что иное, как колоссальный гимн Душе". Этот гимн последнего английского романтика блестяще передал на русском языке Евгений Фельдман. Традиционные для английской поэзии мужские рифмы переводчик почти везде поменял на женские. Это небесспорно с точки зрения буквы, зато позволяет лучше уловить дух "Эндимиона": "И мраморный алтарь среди дубравы / Воздвигнут был; и зеленели травы, / И росы фантазировали с блеском, / И по священным этим перелескам / Ковры из маргариток настилали, / И день грядущий пышно прославляли. / И было утро…". В изящном, под старину, издании поэма воспроизведена также на языке оригинала, а страницы книги украшены репродукциями знаменитых европейских картин в онтологическом вкусе.
Андрей Мирошкин
Крученых А. Стихотворения, поэмы, романы, опера / Вступ. ст., сост., подг. текста, примеч. С. Р. Красицкого. - СПб.: академический проект, 2001. - 480 с. (Новая библиотека поэта). 3000 экз. (п) ISBN 5-7331-0223-3
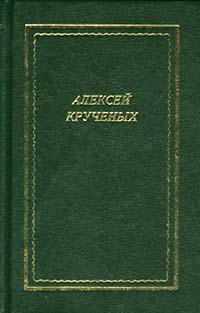
Из всех персонажей русского футуризма Алексей Крученых - личность самая колоритная, самая легендарная. Радикал из радикалов, маргинал из маргиналов, он прославился не столько эпатажными акциями, сколько неистовством литературных и книжных "трюков". Пожалуй, не было в русской литературе экспериментатора более неистощимого, чем Крученых. По его биографии можно изучать основные вехи авангардного движения, причем не только российского. Не выезжавший за границу (послереволюционный Тифлис не в счет), он нутром чуял все радикальные эстетические поветрия Запада и почти всегда опережал их или, как минимум, шел параллельно. Долгое время Крученых был известен главным образом как друг и соратник Маяковского, автор хрестоматийного "дыр бул щыл убешщур". Лишь в последние годы стало переиздаваться и его собственное литературное наследие. Пять лет назад в полном объеме вышли мемуары, а теперь появилось первое научное издание стихов "дичайшего", как он сам себя называл.
Печатать стихотворные тексты Крученых в традиционной, "академической" форме - занятие во всех смыслах небесспорное. Сам автор, кажется, не напечатал ни одного своего стихотворения "просто в столбик". В его малотиражных сборниках буквы, набранные разными шрифтами, а то и написанные литографическим карандашом, "сходят с ума": изгибаются, кувыркаются, запрыгивают друг на друга. "Антипоэтические", заумные тексты в этих книгах неотделимы от графики Малевича, Гончаровой и Ларионова. И очень странно видеть в нынешнем издании стихи Крученых без единой иллюстрации. Это все равно что выпустить монографию о знаменитом художнике без репродукций его картин. Чтобы услышать замысловатую, "дикую" музыку стихов Алексея Крученых, надо видеть, как они публиковались в авторских сборниках (а их вышло более двухсот). Надо "ощущать" глазом фактуру грубой бумаги, на которой эти книги печатались. Надо, наконец, видеть лица участников футуристического движения. Без всего этого даже столь замечательное издание, как нынешнее, кажется пресноватым. Здесь нужны какие-то нетривиальные, быть может - игровые ходы.
В возможность выхода подобного тома до последнего момента как-то не верилось. Казалось, Крученых - не самая подходящая фигура для кушнеровской "Новой библиотеки поэта". "Enfant terrible" русского футуризма, вечно балансировавший на грани гениальности и безумия, не вмещается в рамки академической филологии, его, наверное, следует изучать междисциплинарно. Возможно, когда-нибудь выйдет книга-альбом, в которую войдут факсимиле крученыховских сборников с научными комментариями и фундаментальной статьей "Жизнь и творчество…". А к тексту оперы "Победа над солнцем" - программного произведения русского авангарда - непременно надо будет опубликовать ноты. Ибо наряду с блоковской метафорической "музыкой революции" существовала и вполне реальная, исполнявшаяся со сцены музыка футуризма.
Крученых пережил всех своих соратников по крайне левому флангу. Поэт не от мира сего (буквально! ), он так и сумел встать на тропу соцреализма, оставшись до последних дней литературным изгоем, футуристическим эмигрантом в собственной стране. Мемуаристам 50-60-х годов запомнился чудаковатый старый поэт, последний из могикан классического авангарда, чья московская квартира была битком набита неизданными рукописями и редкими книжками друзей-футуристов. Уже тогда эти уникумы стоили немалых денег. В наши дни за "самописные" книги Крученых (особенно тифлисского периода) коллекционеры-библиофилы платят на аукционах баснословные суммы.
Евгений Лесин
Шиш Брянский. В нежном мареве: Стихотворения. - Тверь: Kolonna Publications, Митин журнал, 2001. - 176 с. 500 экз. (о) ISBN 5-94128-008-8

Шиш Брянский (Кирилл Решетников) - конечно, гений. Хотя и невооруженным глазом видно, откуда ноги растут. Мирослав Немиров, Олег Григорьев, непристойные русские сказки. Да ведь Шиш и сам сказочный, точнее, сказовый персонаж! Брянский же Шиш - этакий скоморох-извращенец, циник с большой дороги, пародист с топором. Шиш брутален, нагл, шумен и ведет себя всегда неподобающим образом. С ним стыдно ходить в гости, не только к приличным людям, но и к последним забулдыгам, бомжам-маньякам, убийцам кошек и тараканов. Цитировать его боязно, ибо он не только груб и бесстыден, но еще и неполиткорректен. Правда, все это очень смешно и действительно хорошо. Шиш Брянский похож на Луи де Фюнеса и Незнайку: самомнение, нарциссизм, граничащий с безумием, в то же время - простодушие, абсолютное и открытое. Наивность, перерастающая, как у Швейка, в прекрасный идиотизм. Впрочем, таков именно Шиш -персонаж, личина, кумир и антигерой нашего безвременья. Шиш, если надо, православен - до такой степени, что страшно за РПЦ, если надо - русский националист, каких и РНЕ стыдится, если надо - сионист до мозга бело-голубых костей. Кому надо? Бог его знает, сам Шиш за себя не отвечает, поет, как птичка (правда, пьяная, с выщипанными перьями, жабрами и мотоциклетной каской на голове): "В Александровском Саду / С чорной розою в Заду / Я повешуся на клене / И тихонько отойду…"
Немного о языке (бог мой, как любят, наверное, Шиша корректоры! ). Лубок, народное творчество всегда неграмотны, дурашливы. Шиш - это лубок в квадрате, поэтому у него свой, глуповатый, как вся поэзия, язык. Язык несуществующий, язык на котором не говорят, язык на котором можно - петь, летать, мечтать, в крайнем случае чревовещать или бредить. А лучше всего, конечно, молчаливо упрекать, качать головой, смотреть сквозь пальцы и исподлобья, подмигивать и повизгивать.
Ехать в метро с книжкой Шиша опасно: смеешься, как дурак, тебе заглядывают через плечо и в ужасе от тебя отшатываются, переходят в другой вагон, а то и вовсе зовут служителей закона. Те, впрочем, никогда не откликаются, машут руками и говорят что-то шишеобразное. "Подарил копейку / Мне Бог. / Сел я на скамейку / И здох". Простота лучше воровства. Шиш - подлинно народный персонаж, потому и придуривается: "Моя юродивая лира / Звенит в терновом Серце мира". Вот и все. Ни убавить, ни прибавить, именно в Серце, а не в сердце. Лира сама выбирает, где звенеть. Звенеть и звать на подвиги, на совершение хороших поступков: трех подряд и бескорыстно:
Я в Италию поеду
Да поагитирую:
Становись-ка, Чипполино,
Чикатило-
ю!
Не станет! Потому что и так страшен. Мир вообще страшен, особенно если глядеть на него снизу и сбоку, как Шиш Брянский. Он даже и не глядит, а выглядывает. Впрочем, он и не пишет, а - выписывает (кренделя), пляшет и дурит. Иногда капризничает, скулит, жалуется и просит. "Положите меня в ясельки, ясельки / Чтобы я лежал бы в люлечке, люлечке / И пускал бы из носа сопельки, сопельки, / Издая при этом вопельки, вопельки…" Это надо же - "издая"! Может и было когда-то такое слово, уж больно органично, естественно звучит.
Наверное, за это и прощаешь Шишу все его извращения, всю брань и попрошайничество, все его плевки и ужимки - он органичен и естественен. Как навоз, как дождь, как листопад, как пьяные возле железнодорожной насыпи, как Пушкин, наконец. "Когда я лягу в мой детский гробик, / Мне Мудрость постучится в Лобик. / О, я ей сразу отворю! / Она войдет и скажет: хрю". А больше Мудрость и не может ничего сказать-то. Если она, конечно, действительно Мудрость. Хрю.
Евгений Лесин
АВТОРНИК: Альманах литературного клуба. Сезон 2000/2001 гг., вып.1. - М.: АРГО-РИСК; Тверь: Kolonna Publications, 2001. - 68 с. 200 экз. (о) ISBN 5-94128-020-1
Чем хороши всякого рода коллективные сборники и антологии? Если включены туда не исключительно угрюмые и восторженные графоманы, то практически любой читатель найдется в подобном издании что-то хорошее, отвечающее его вкусам, запросам, настроению наконец. Среди поэтов
близких к московскому литературному клубу "Авторник" (а именно они напечатаны - что естественно - в альманахе), будем откровенны, не все являются законченными угрюмыми и восторженными графоманами. В каком-то смысле даже наоборот: авторы разные, с разной степенью дарования и поэтического упрямства, но не лишенные их вовсе. Некоторые же просто являются хорошими поэтами. Если не брать классиков (Лукомникова, Ахметеьева; главный редактор журнала поэзии "Арион" представлен несколько необычно - пародиями, впрочем, довольно удачными), то в книжке напечатан автор один оправдывающий не только данный, но и все последующие (надеюсь, они обязательно - последуют) выпуски "Авторника". Я имею в виду Вадима Калинина. "В тот день, когда тебя зарежут, / Гроза обнимет Ленинград, / Войдет в озоновую нежность / Густой, томительный раскат..." Кроме того, стоит отметить Татьяну Милову и Ирину Шостаковскую, Винника и Воденникова (забавно, когда эти фамилии рядом), Фанайлову и О. Иванову. И еще. Наверное, не всегда стоит печатать в одном и том же издании Ахметьева и Лукомникова (или выбирать тексты так, чтобы одного нельзя было спутать с другим). Пародия Алехина на Рубинштейна очень смешная, хотя не злая. Закончу же все равно Калининым: "Отпусти, родимый, вожжи/ Или спятил ты, дружок? / Что ты, Вадик? Это дождик, / Дождик - это хорошо". Дождик - это не просто хорошо, это очень хорошо.
БОНУС: Кальян Каломенский
Алексей Перминов Мой декаданс, 2001

 Алексей Перминов, более известный как Грюндиг, скончался 12-го июня 2000 года в возрасте двадцати пяти лет. В таком возрасте умирают обычно только поэты. Конечно, не все умершие так рано могут называться поэтами, но самые гениальные поэты почему-то долго не живут. И смерть их всегда трагична. Александр Пушкин, Владимир Маяковский, Джордж Байрон, Артюр Рембо и Даниил Ювачев, более известный как Хармс - 37 лет, Сергей Есенин и Перси Биши Шелли - 30 лет, Михаил Лермонтов - 27, Джон Китс - 26, Лотреамон - 24. Недавняя смерть Ильи Тюрина. И теперь смерть Перминова, Грюндига. Самое печальное - буквально на той же неделе умер Купорос, всего двадцати трех лет. Не держит их Земля, слишком быстро забирает их к себе Бог. Но кто знает, может им там лучше. От долгих лет жизни поэзия засыхает, каменеет и становится больше похожей на прозу. Мятежный дух поэта не может долго томится в тесной клетке человеческого тела, он либо совершает революцию, либо покидает его, освобождается.
Вспоминается тут сразу песня Владимира Высоцкого "О фатальных датах и цифрах", начинающаяся со слов:
Кто кончил жизнь трагически, тот - истинный поэт,
А если в точный срок, так - в полной мере…
А сколько прожил сам Высоцкий? Кстати у Грюндига есть стихотворение о друзьях, заканчивающееся такими словами, явно отсылающими к одной из самых известных песен Высоцкого:
О сучье племя! Мои братья. Твари.
Пред вами на колени я встаю,
Погибшими на этом поле брани.
Я допою, допив отраву на краю.
Алексей Перминов не просто был поэтом. Во многом его фигура в нашей культуре просто уникальна. Дело в том, что он был музыкантом. Но не одним из многочисленных поэтов-рок-н-рольщиков, признание которых уже давно произошло, а рэппером, то есть представителем практически маргинальной в контексте нашей "высокой культурной жизни" музыки. Грюндиг был человеком, доказавшим, что музыка, которую он представлял, не просто музыка для подростков, не просто музыка бедных негров с толстенными золотыми цепями, а такая же, как и любая другая, где могут быть шедевры, а могут быть и серость и бездарность. Также как когда-то джаз считался хулиганской музыкой черных (вспомните "Степного волка" Германа Гессе, где главный герой долгое время колеблется, с одной стороны он чувствует эту музыку, но с другой стороны не может признать ее равной классической академической). Только вот где теперь играют джаз? В консерватории. В американском хип-хопе в конце 80-х - начале 90-х прогремела революция интеллектуального рэпа, в том числе и джаз-рэпа. Ее творцами были Gang Starr, A Tribe Called Quest, Arrested Development, теперь им на смену пришли Mos Def, Black Eyed Peas, Dilited Peoples… Это заставило "высоких" критиков обратить внимание на новую музыку, посмотреть на нее уже без всякого предубеждения. Хотелось бы надеяться, что фигура Грюндига сыграет такую же роль, пусть посмертно. И эта книга может стать шагом к этому, пусть малым (потому что тираж составляет всего 700 экземпляров), но уверенным.
Книга открывается эпиграфом самого Грюндига:
Громкая грязь. Скверна в развес.
Мой декаданс - "Красный крест"
Далее следует предисловие S.-Y. (не имеет смысла расшифровывать эти инициалы, так как людям, которым было знакомо имя Грюндига до этого момента, безусловно, было знакомо и это, а другим расшифровка ничего не скажет), содержащее некоторую информацию о литературных вкусах Грюндига. Тут и Ален Гинзберг, и Ален Роб-Грийе, и Лотреамон, и Франц Кафка…
Сами стихи скомпонованы в три сборника: "Последняя осень эпохи", "Сердце в заплатках" и "Мистика слога". Звучит достаточно пафосно, но что вы хотели от постромантика?
Название первого сборника отсылает не только к одноименному стихотворению:
Последнюю осень эпохи
Бредово, бедламно, в забвеньи
Встречает мое поколенье
Под неба предсмертные вздохи.
Вот яблоки падают наземь…
Нет на улице больше прежних,
Соратников еще меньше,
Как будто закляты все разом.
но и к последней песне, в записи которой он принял участие. Называлась она "Последняя ода", в книге содержится полный ее текст:
Страх человеческий вечный и честный
Частный страх в гранях свободы
Роды природы не радуют глаз и сознанье
Нет наказанья страшней ожиданья
Хуже забвенья и раны смертельной
Гной неизвестности душу залил паранойей
Выпасть из строя? Из списка конвенций?
Деменция от эволюции - побочное действие
Поллюции слабоумия у процента населения
Недоброе явление в обществе вечном
Эра Водолея с кармой калечной…
Есть и полный текст стихотворения "Трасса", отрывок из которого послужил эпиграфом к единственному альбому "Рабов Лампы" - группы, состоящей из двух человек: Джипа и Грюндига:
Трасса жизни знаменем впереди лежит
Не один герой был на ней убит
Мчишься по дороге - не вздумай тормозить
Сзади тоже едут - могут раздавить
Много здесь и стихотворений об известных личностях: Есенин, Хармс, Верлен, Ницше, Маларме. Вот стихотворение о Берроузе:
А Берроуз совсем без бороды!
А я думал - молодой и с бородой
А на роже морщины видны!
А я думал - красив и живой
А Берроуза любят лгуны!
А я думал, он гвоздь им в глаза
Его именем строят мосты
А я думал, за ним гиблый прах
Книга напечатана на отличной желтой бумаге, имитирующей архаичный декадентский романтизм, даже имеется шнурок-закладка. Особо радуют "рисунки на полях" самого Грюндига.
Заключается книга стихотворениями-посвящениями Грюндигу, написанными его близкими друзьями.
Дело революции не умирает вместе с ее творцами. Другое дело, что оно часто изменяется после их смерти. Что будет с наследием Грюндига дальше? Что будет с музыкой, которую он любил всей душой? Есть у Грюндига такая песня "Песенка короткая как жизнь":
Песенка короткая как жизнь сама,
Пропорхнет она как мотылек-однодневка.
Лишь переменка в твоей будничной жизни.
Ты сам не заметишь этого момента.
Будем надеяться, что эта жизнь не была всего лишь переменкой в нашей будничной жизни, хоть и пропорхнула она как мотылек-однодневка.
Алексей Перминов, более известный как Грюндиг, скончался 12-го июня 2000 года в возрасте двадцати пяти лет. В таком возрасте умирают обычно только поэты. Конечно, не все умершие так рано могут называться поэтами, но самые гениальные поэты почему-то долго не живут. И смерть их всегда трагична. Александр Пушкин, Владимир Маяковский, Джордж Байрон, Артюр Рембо и Даниил Ювачев, более известный как Хармс - 37 лет, Сергей Есенин и Перси Биши Шелли - 30 лет, Михаил Лермонтов - 27, Джон Китс - 26, Лотреамон - 24. Недавняя смерть Ильи Тюрина. И теперь смерть Перминова, Грюндига. Самое печальное - буквально на той же неделе умер Купорос, всего двадцати трех лет. Не держит их Земля, слишком быстро забирает их к себе Бог. Но кто знает, может им там лучше. От долгих лет жизни поэзия засыхает, каменеет и становится больше похожей на прозу. Мятежный дух поэта не может долго томится в тесной клетке человеческого тела, он либо совершает революцию, либо покидает его, освобождается.
Вспоминается тут сразу песня Владимира Высоцкого "О фатальных датах и цифрах", начинающаяся со слов:
Кто кончил жизнь трагически, тот - истинный поэт,
А если в точный срок, так - в полной мере…
А сколько прожил сам Высоцкий? Кстати у Грюндига есть стихотворение о друзьях, заканчивающееся такими словами, явно отсылающими к одной из самых известных песен Высоцкого:
О сучье племя! Мои братья. Твари.
Пред вами на колени я встаю,
Погибшими на этом поле брани.
Я допою, допив отраву на краю.
Алексей Перминов не просто был поэтом. Во многом его фигура в нашей культуре просто уникальна. Дело в том, что он был музыкантом. Но не одним из многочисленных поэтов-рок-н-рольщиков, признание которых уже давно произошло, а рэппером, то есть представителем практически маргинальной в контексте нашей "высокой культурной жизни" музыки. Грюндиг был человеком, доказавшим, что музыка, которую он представлял, не просто музыка для подростков, не просто музыка бедных негров с толстенными золотыми цепями, а такая же, как и любая другая, где могут быть шедевры, а могут быть и серость и бездарность. Также как когда-то джаз считался хулиганской музыкой черных (вспомните "Степного волка" Германа Гессе, где главный герой долгое время колеблется, с одной стороны он чувствует эту музыку, но с другой стороны не может признать ее равной классической академической). Только вот где теперь играют джаз? В консерватории. В американском хип-хопе в конце 80-х - начале 90-х прогремела революция интеллектуального рэпа, в том числе и джаз-рэпа. Ее творцами были Gang Starr, A Tribe Called Quest, Arrested Development, теперь им на смену пришли Mos Def, Black Eyed Peas, Dilited Peoples… Это заставило "высоких" критиков обратить внимание на новую музыку, посмотреть на нее уже без всякого предубеждения. Хотелось бы надеяться, что фигура Грюндига сыграет такую же роль, пусть посмертно. И эта книга может стать шагом к этому, пусть малым (потому что тираж составляет всего 700 экземпляров), но уверенным.
Книга открывается эпиграфом самого Грюндига:
Громкая грязь. Скверна в развес.
Мой декаданс - "Красный крест"
Далее следует предисловие S.-Y. (не имеет смысла расшифровывать эти инициалы, так как людям, которым было знакомо имя Грюндига до этого момента, безусловно, было знакомо и это, а другим расшифровка ничего не скажет), содержащее некоторую информацию о литературных вкусах Грюндига. Тут и Ален Гинзберг, и Ален Роб-Грийе, и Лотреамон, и Франц Кафка…
Сами стихи скомпонованы в три сборника: "Последняя осень эпохи", "Сердце в заплатках" и "Мистика слога". Звучит достаточно пафосно, но что вы хотели от постромантика?
Название первого сборника отсылает не только к одноименному стихотворению:
Последнюю осень эпохи
Бредово, бедламно, в забвеньи
Встречает мое поколенье
Под неба предсмертные вздохи.
Вот яблоки падают наземь…
Нет на улице больше прежних,
Соратников еще меньше,
Как будто закляты все разом.
но и к последней песне, в записи которой он принял участие. Называлась она "Последняя ода", в книге содержится полный ее текст:
Страх человеческий вечный и честный
Частный страх в гранях свободы
Роды природы не радуют глаз и сознанье
Нет наказанья страшней ожиданья
Хуже забвенья и раны смертельной
Гной неизвестности душу залил паранойей
Выпасть из строя? Из списка конвенций?
Деменция от эволюции - побочное действие
Поллюции слабоумия у процента населения
Недоброе явление в обществе вечном
Эра Водолея с кармой калечной…
Есть и полный текст стихотворения "Трасса", отрывок из которого послужил эпиграфом к единственному альбому "Рабов Лампы" - группы, состоящей из двух человек: Джипа и Грюндига:
Трасса жизни знаменем впереди лежит
Не один герой был на ней убит
Мчишься по дороге - не вздумай тормозить
Сзади тоже едут - могут раздавить
Много здесь и стихотворений об известных личностях: Есенин, Хармс, Верлен, Ницше, Маларме. Вот стихотворение о Берроузе:
А Берроуз совсем без бороды!
А я думал - молодой и с бородой
А на роже морщины видны!
А я думал - красив и живой
А Берроуза любят лгуны!
А я думал, он гвоздь им в глаза
Его именем строят мосты
А я думал, за ним гиблый прах
Книга напечатана на отличной желтой бумаге, имитирующей архаичный декадентский романтизм, даже имеется шнурок-закладка. Особо радуют "рисунки на полях" самого Грюндига.
Заключается книга стихотворениями-посвящениями Грюндигу, написанными его близкими друзьями.
Дело революции не умирает вместе с ее творцами. Другое дело, что оно часто изменяется после их смерти. Что будет с наследием Грюндига дальше? Что будет с музыкой, которую он любил всей душой? Есть у Грюндига такая песня "Песенка короткая как жизнь":
Песенка короткая как жизнь сама,
Пропорхнет она как мотылек-однодневка.
Лишь переменка в твоей будничной жизни.
Ты сам не заметишь этого момента.
Будем надеяться, что эта жизнь не была всего лишь переменкой в нашей будничной жизни, хоть и пропорхнула она как мотылек-однодневка.
БОНУС: Кальян Каломенский
Сафо Остров Лесбос, Эксмо-пресс, Антология мудрости, 2001

 Сафо - безусловно самая великая древняя поэтесса. Но известна она не только своими стихами и своей неординарностью, но и другими качествами.
Как известно, она жила на знаменитом острове Лесбос. Какие ассоциации возникают у современного читателя при упоминании этого названия - пояснять не стоит. К тому же страстная любовная лирика Сафо, объектами страсти которой были молодые девушки, говорит в пользу такого мнения. Весь мир, начиная еще с Античности, а именно Рима, считал Сафо лесбиянкой. Что на самом деле было совершенно не так. Цель данной книги - не только донести до читателя лирику Сафо, но и развеять этот миф. Одним из создателей его был Овидий, далее все шло уже совершенно обычно: ярлык наклеен, а избавиться от него намного сложнее, нежели приобрести. Не стоит забывать, что древняя Эллада была не такой страной, как современная Европа, а значит и общественные нормы были другими. Однополая любовь между мужчинами была делом обычным, особенно это приветствовалось между учителями и учениками, ибо так юнцы могли лучше познать мир. Но однополая любовь женщин имела совершенно другой статус, была чем-то грязным и запрещенным. И при этом Сафо считалась одной из самых уважаемых женщин своего времени, отдать свою дочь к ней в обучение стремились многие. В этом и заключается главное противоречие сложившегося мифа. Другая слабина состоит в том, что в греческом языке и греческом сознании вообще понятие любовь носило несколько иные оттенки, нежели сейчас.
Лирика Сафо очень чиста и открыта, в ней нет ничего лукавого, что могло бы быть, если бы она имела повод стыдиться. Сафо всегда говорит открыто, и когда воспевает Афродиту, и когда смеется над соперницами:
Противней тебя
я никого,
милая, не встречала!
или:
Что колечком своим так гордишься ты,
дурочка?
Сафо - безусловно самая великая древняя поэтесса. Но известна она не только своими стихами и своей неординарностью, но и другими качествами.
Как известно, она жила на знаменитом острове Лесбос. Какие ассоциации возникают у современного читателя при упоминании этого названия - пояснять не стоит. К тому же страстная любовная лирика Сафо, объектами страсти которой были молодые девушки, говорит в пользу такого мнения. Весь мир, начиная еще с Античности, а именно Рима, считал Сафо лесбиянкой. Что на самом деле было совершенно не так. Цель данной книги - не только донести до читателя лирику Сафо, но и развеять этот миф. Одним из создателей его был Овидий, далее все шло уже совершенно обычно: ярлык наклеен, а избавиться от него намного сложнее, нежели приобрести. Не стоит забывать, что древняя Эллада была не такой страной, как современная Европа, а значит и общественные нормы были другими. Однополая любовь между мужчинами была делом обычным, особенно это приветствовалось между учителями и учениками, ибо так юнцы могли лучше познать мир. Но однополая любовь женщин имела совершенно другой статус, была чем-то грязным и запрещенным. И при этом Сафо считалась одной из самых уважаемых женщин своего времени, отдать свою дочь к ней в обучение стремились многие. В этом и заключается главное противоречие сложившегося мифа. Другая слабина состоит в том, что в греческом языке и греческом сознании вообще понятие любовь носило несколько иные оттенки, нежели сейчас.
Лирика Сафо очень чиста и открыта, в ней нет ничего лукавого, что могло бы быть, если бы она имела повод стыдиться. Сафо всегда говорит открыто, и когда воспевает Афродиту, и когда смеется над соперницами:
Противней тебя
я никого,
милая, не встречала!
или:
Что колечком своим так гордишься ты,
дурочка?
даже когда ее охватывает ревность:
Иль кого другого ты любишь больше,
Чем меня?
или:
…обо мне же ты забыла…
Достоинство этой книги в том, что в ней собраны переводы разных авторов, разных эпох. Книга также дополнена стихами, навеянными "Десятой музой" (как называли Сафо). Составители книги так поясняют это: "тексты размещены нами в хронологии точных или приблизительных дат их написания - от новейших, постмодернистских переводов и вариаций - к русской классике, а от нее - к еще неотесанным словесным формам XVIII века…"
Особо стоит выделить работы Ирины Евсы - ей переведен первый блок лирики Сафо, а также приведено ее стихотворение "Алкей и Сафо". Ее строчки выглядят очень живо и оживляют более тяжеловесную древность. А ее собственное стихотворение написано уже с использованием рифмы и сочетает архаичную структуру Сафо и нетривиальную рифмовку, характерную только для двадцатого века:
Облепили пирс рыбаки. Пурпурнозолотая чаша всплывает грузно.
Запрокинув горло, всплывает урна
коркой арбузной.
Также живо звучит и стихотворение Александра Кушнера "Скала", но в нем превалирует уже не та восхищенная радость, что у Евсы, а монотонная монолитность древности:
Где та скала,
скала,
скала,
с которой сбрасываются вниз,
вниз,
вниз
дрожащие тела,
за кустик, словно за карниз,
цепляющиеся, ведь есть,
ведь никуда не делась, ждет.
О посмотреть бы, о залезть, -
и хищных птиц над ней полет.
Не удивительно, что Кушнеру совсем недавно присудили Пушкинскую премию в области поэзии. К слову, есть в книге и пушкинская Сафо из цикла "Подражание древним".
Таким образом, можно сказать, что Сафо сейчас важна уже не столько своей поэзией как поэзией, а, сколько важна сама по себе и ее поэзия как катализатор творчества, Десятая муза.
Книга оформлена графикой Анри Матисса, что тоже является хорошей чертой.