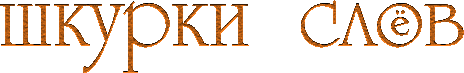
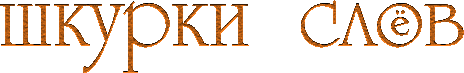
 |
|---|
Георгий Петров
Берроуз У. Кот внутри: Короткая проза
Пер. с англ. Д. Волчека. Oaa?u: Kolonna Publications, Митин Журнал, 2002. - 272 с. (Vasa Inquitatis. Сосуд Беззаконий) Тираж 2000 экз. ISBN 5-94128-063-7
 Любимый автор Митиного Журнала Уильям Берроуз писал не только жёсткие гомосексуальные потокосознательные романы, но и вполне лиричные зарисовки о животных. В данном случае о котах и кошках. Старина Билл страшно не любил женщин и собак, зато любил кошек и юношей. Про последних, даже не в сексуальном плане, тут почти ни слова. Зато перечислены многочисленные связи с представителями кошачьего рода. Нет, не сексуальные, а просто дружественные. Немного напоминает вышедший недавно роман Чарльза Буковски "Женщины". Такая же череда существ: то весело, то грустно. Весело, когда они еще котята, грустно, когда заканчивается их жизнь - она не такая долгая, как человеческая. Путем обобщения Берроуз различает собачий и кошачий дух. Первый присущ нашему обществу, системе, второй - таким людям, как сам Берроуз. Противостояние постоянно, статично, бесконечно.
Любимый автор Митиного Журнала Уильям Берроуз писал не только жёсткие гомосексуальные потокосознательные романы, но и вполне лиричные зарисовки о животных. В данном случае о котах и кошках. Старина Билл страшно не любил женщин и собак, зато любил кошек и юношей. Про последних, даже не в сексуальном плане, тут почти ни слова. Зато перечислены многочисленные связи с представителями кошачьего рода. Нет, не сексуальные, а просто дружественные. Немного напоминает вышедший недавно роман Чарльза Буковски "Женщины". Такая же череда существ: то весело, то грустно. Весело, когда они еще котята, грустно, когда заканчивается их жизнь - она не такая долгая, как человеческая. Путем обобщения Берроуз различает собачий и кошачий дух. Первый присущ нашему обществу, системе, второй - таким людям, как сам Берроуз. Противостояние постоянно, статично, бесконечно.
Но все вышесказанное в полной мере касается только "Кота внутри", выпущенного Журналом в 1998 году отдельной книгой, и в некоторой мере "Руски", вышедшего недавно в бездарно изданном сборнике "Финт хвостом" издательства АСТ. В этом астэшном сборнике рассказ переведен как "Русский", то есть кошачью кличку превратили в национальность.
"Руски" в оригинале, а также в "Коте внутри" как раз и является мостком от кошачьей аллегории к шпионской паранойе, вкупе с миллионами диких мальчиков в разной степени обнаженности и готовности к коитусу, а также теорией вирусов.
В "Здесь Ах Пуч" - смерть майя, в "Аллее Торнадо" - убийство американской мечты в том числе за уничтожение "благодарю за индейцев, не очень строптивых, не очень опасных… благодарю за истребленных волков и койотов… благодарю за наклейки "Убей пидора во имя Христа"… благодарю за выведенный в лабораториях СПИД… благодарю за нацию стукачей…" и прочих уёбков. Отсюда и посвящение Джону Диллинджеру, отсюда и музыка Автоматчика Келли. Лишь бы не сродниться с уёбками, которых ждет неминуемая смерть от вируса, который они сами породили.
С другой стороны, достаточно сложно адекватно воспринять "Кота внутри" и "Призрачный шанс", не читая последнюю трилогию Берроуза, еще не напечатанную на русском: "Города Красной Ночи", "Пространство Мертвых Дорог" и "Западные Земли". "Кот" и "Шанс" являются своеобразным эпилогом к трилогии, на русском же они выполняют роль пролога. В данной трилогии большое внимание уделяется вирусу, идее, разработанной вместе с Брайаном Гайсином, соавтором "Дезинсектора". В какой-то степени это близко тому, что было изложено Берроузом в "Электронной революции". В первую очередь речь идет о вирусе слова, речи - словесном, звучащем вирусе. Достаточно описать страх, и люди испугаются, достаточно описать смерть, и она придет. Достаточно описать конец уёбков, и он настанет.
Андрей Мирошкин
Гордер Ю. Vita brevis: Роман
Роман / Пер. с норв. Л.Брауде. - СПб.: Амфора, 2002. - 192 с. 3000 экз. (п) ISBN 5-94278-318-7
 Пятидесятилетний норвежец Юстейн Гордер известен в мире в основном как детский писатель. Из 12 написанных им книг девять - для детей и подростков (включая супербестселлер начала 90-х роман "Мир Софии", не так давно изданный и по-русски). Гордер - лауреат множества престижных "детских" премий и наград: обладатель Золотой медали Х.К.Андерсена, медали Януша Корчака, Почетной статуэтки Пера Гюнта… Пишет он и книги для взрослых. Небольшой роман "Vita Brevis" ("Жизнь коротка") вышел в Норвегии в 1996 году и стал европейской сенсацией. Это изысканная история любви и одновременно хитроумная мистификация с философско-религиоведческим уклоном, своего рода литературный апокриф. Сюжет - как раз из тех времен, когда создавались апокрифические евангелия. Самый конец античности, чуть брезжит Средневековье: 400 год нашей эры. Флория Эмилия, возлюбленная великого философа и богослова Августина Блаженного пишет письмо. Самому Августину, давно отрекшемуся от грехов молодости и ставшему епископом. И в письме комментирует его "Исповедь", дает на эту книгу свой женский ответ, логичный, ехидный, страстный. Впоследствии письмо то ли затерялось на долгие века, то ли (на это намекает публикатор) было умышленно запрятано ватиканскими кардиналами подальше, дабы не компрометировать христианство и одного из величайших отцов Церкви. Но некоторое количество списков с древнего пергамента все же было сделано.
Вот тут-то и начинается мистификация абсолютно в духе Борхеса и Павича: копию письма Флории, выполненную то ли в ХVI, то ли в ХVII веке, обнаруживает в буэнос-айресской антикварной лавке Юстейн Гордер. Покупает, переводит, снабжает комментариями, публикует. (Все-таки дипломированный специалист по философии и истории религии.) Доказательств подлинности письма нет, да и купленный в Аргентине манускрипт, конечно же, тоже исчезает… Все законы жанра соблюдены четко: если есть мужская, христианская версия любовной истории Аврелия Августина, то почему бы не быть и женской, чувственной версии? Ведь многие, читавшие "Исповедь", задумывались: а что же стало с подругой Августина? и что она сама думает обо всей этой истории?
Пятидесятилетний норвежец Юстейн Гордер известен в мире в основном как детский писатель. Из 12 написанных им книг девять - для детей и подростков (включая супербестселлер начала 90-х роман "Мир Софии", не так давно изданный и по-русски). Гордер - лауреат множества престижных "детских" премий и наград: обладатель Золотой медали Х.К.Андерсена, медали Януша Корчака, Почетной статуэтки Пера Гюнта… Пишет он и книги для взрослых. Небольшой роман "Vita Brevis" ("Жизнь коротка") вышел в Норвегии в 1996 году и стал европейской сенсацией. Это изысканная история любви и одновременно хитроумная мистификация с философско-религиоведческим уклоном, своего рода литературный апокриф. Сюжет - как раз из тех времен, когда создавались апокрифические евангелия. Самый конец античности, чуть брезжит Средневековье: 400 год нашей эры. Флория Эмилия, возлюбленная великого философа и богослова Августина Блаженного пишет письмо. Самому Августину, давно отрекшемуся от грехов молодости и ставшему епископом. И в письме комментирует его "Исповедь", дает на эту книгу свой женский ответ, логичный, ехидный, страстный. Впоследствии письмо то ли затерялось на долгие века, то ли (на это намекает публикатор) было умышленно запрятано ватиканскими кардиналами подальше, дабы не компрометировать христианство и одного из величайших отцов Церкви. Но некоторое количество списков с древнего пергамента все же было сделано.
Вот тут-то и начинается мистификация абсолютно в духе Борхеса и Павича: копию письма Флории, выполненную то ли в ХVI, то ли в ХVII веке, обнаруживает в буэнос-айресской антикварной лавке Юстейн Гордер. Покупает, переводит, снабжает комментариями, публикует. (Все-таки дипломированный специалист по философии и истории религии.) Доказательств подлинности письма нет, да и купленный в Аргентине манускрипт, конечно же, тоже исчезает… Все законы жанра соблюдены четко: если есть мужская, христианская версия любовной истории Аврелия Августина, то почему бы не быть и женской, чувственной версии? Ведь многие, читавшие "Исповедь", задумывались: а что же стало с подругой Августина? и что она сама думает обо всей этой истории?
Ответ на эти вопросы - в книге "Vita Brevis" (само продолжение этого латинского изречения намекает на мистификаторскую природу текста). Брошенная своим другом Флория уехала в Карфаген и с головой ушла в чтение философских и богословских трудов: "Ибо необходимо было выяснить, что же в этой философии такого, могущего разлучить любящую пару друг с другом". Так ей открылась страшная тайна: мужчины нередко склонны изменять женам и подругам не с кем-нибудь, а с… идеей. Идея, увы, - соперница многих женщин, и соперница практически непобедимая. Обуянный идеей (в случае Августина - идеей Чистоты и Воздержания), мужчина - это просто монстр, размышляет Флория. Он подвергает себя мучительным духовным самоистязаниям ("Воистину ты стал настоящим евнухом!"). Если пишет исповедальную книгу - многое забывает (особенно из своей "дохристианской" разгульной жизни, и Флории приходится напоминать ему об этом). Разлучает мать с ребенком (внебрачный сын Августина остался с отцом и вскоре умер). Наконец, такой мужчина способен на самое настоящее вероломство ("Ты ушел и продал меня ради спасения своей души!")…
Письмо Флории - прямо-таки клокочущий вулкан женской обиды. Впрочем, чтение мудрецов не прошло для женщины даром: текст письма буквально прошит цитатами, аллюзиями, ссылками на античных мыслителей, чьи труды, конечно же, не сохранились до наших дней… Параллель с царицей Дидоной, брошенной Энеем ради предначертанного небесами долга, здесь более чем прозрачна. И сама по себе стилизация выполнена мастерски (текст письма напечатан, в подражание древней рукописи, на нечетных страницах, а комментарии публикатора - на четных). Но роман этот - не просто "женская версия" мирового философско-исповедального бестселлера. Это своего рода притча о любви - в древнеримском антураже, но вполне современная по духу. Книга о том, с какой легкостью люди забывают своих ближних. Как идеи, науки, карьера и власть подчас убивают в людях человеческое начало. Как, фанатично спасая собственную душу, человек подчас становится ханжой и эгоистом.
Впрочем, к реальному, историческому Августину Аврелию, великому писателю, мистику и духовидцу, всё это, естественно, не относится…
Андрей Мирошкин
Янссон Т. Дочь скульптора: Автобиографическая повесть; Великое путешествие: Избранные новеллы
Пер. со швед. - СПб.: Амфора, 2001. - 331 с. - (Гербарий). 7000 экз. (п) ISBN 5-94278-208-3
 Судя по выходным данным, книга подписана в печать спустя несколько недель после кончины Туве Янссон. Мировую славу писательнице принесли книги о муми-троллях, снорках, хемулях, кнюттах и других сказочных существах. (Кстати, Янссон сама иллюстрировала свои детские книжки.) Но параллельно с этими книгами она писала и новеллы для взрослых. Первое время они оставались в тени детского творчества Янссон, и лишь позднее читатели и критики оценили эти психологически острые истории. Некоторые взрослые новеллы писательницы издавались в России. В нынешнее "амфоровское" издание вошла "малая проза" Янссон, прежде на русском языке не публиковавшаяся - это автобиографическая повесть "Дочь скульптора" (1969; ранее у нас печатались лишь ее фрагменты) и избранные новеллы 1971 - 1997 годов из трех сборников.
Конечно, большинству читателей в нашей стране Туве Янссон известна прежде всего как автор книг для детей. В этом смысле повесть "Дочь скульптора", открывающая сборник, - это как бы "переходный этап" писательницы от детского жанра к "серьезному". Время действия повести - 20-е годы ХХ века, место действия - Хельсинки (точнее, Хельсингфорс, как его называли шведскоязычные обитатели). Финляндия только-только провозгласила независимость, не так давно закончилась Первая мировая война (немного задевшая и Суоми), в Европе бурлят политические страсти, в соседней России укрепляется большевистская власть… Вот что известно об этом времени из учебников истории и документальных книг. Ничего этого, впрочем, в повести Янссон нет. Здесь только мир маленькой девочки из культурной и обеспеченной семьи; мать ее - художница, иллюстратор книг, а отец - скульптор, вся его мастерская завалена гипсом. Окружающие героиню реалии типичны для прибалтийской, северной литературы: холодные шторма, снежные бури, приливы-отливы, катание на лодках и на коньках, рыбалка, долгие зимние вечера в гостиной. Представьте себе, допустим, молодую эстонскую прозу (с подражаниями Гайдару и Житкову) в журнале "Юность" или "Смена" 60-х годов. Впрочем, герои повести Янссон отмечают не Первомай, а Рождество и шведские старинные праздники. Повествование ведется в мягкой, чуть ироничной, полусказочной интонации. Вот маленькая героиня идет по берегу Финского залива: "Я иду так долго, что становлюсь длинной и тонкой, как травинка, а волосы мои превращаются в мягкую метелку какого-то растения, и в конце концов я пускаю корни и начинаю шуршать, и шелестеть, и шуметь, как все мои сестры-тростинки, и время никогда не кончается". Серьезные события в жизни девочки (например, встреча с контрабандистами) чередуются с фантазиями, шутками, наблюдениями за чудаковатыми родственниками. К примеру, за Тетушкой, любительницей мастерить бумажные коробочки со множеством отделений и украшать комнаты глянцевыми картинками…
Судя по выходным данным, книга подписана в печать спустя несколько недель после кончины Туве Янссон. Мировую славу писательнице принесли книги о муми-троллях, снорках, хемулях, кнюттах и других сказочных существах. (Кстати, Янссон сама иллюстрировала свои детские книжки.) Но параллельно с этими книгами она писала и новеллы для взрослых. Первое время они оставались в тени детского творчества Янссон, и лишь позднее читатели и критики оценили эти психологически острые истории. Некоторые взрослые новеллы писательницы издавались в России. В нынешнее "амфоровское" издание вошла "малая проза" Янссон, прежде на русском языке не публиковавшаяся - это автобиографическая повесть "Дочь скульптора" (1969; ранее у нас печатались лишь ее фрагменты) и избранные новеллы 1971 - 1997 годов из трех сборников.
Конечно, большинству читателей в нашей стране Туве Янссон известна прежде всего как автор книг для детей. В этом смысле повесть "Дочь скульптора", открывающая сборник, - это как бы "переходный этап" писательницы от детского жанра к "серьезному". Время действия повести - 20-е годы ХХ века, место действия - Хельсинки (точнее, Хельсингфорс, как его называли шведскоязычные обитатели). Финляндия только-только провозгласила независимость, не так давно закончилась Первая мировая война (немного задевшая и Суоми), в Европе бурлят политические страсти, в соседней России укрепляется большевистская власть… Вот что известно об этом времени из учебников истории и документальных книг. Ничего этого, впрочем, в повести Янссон нет. Здесь только мир маленькой девочки из культурной и обеспеченной семьи; мать ее - художница, иллюстратор книг, а отец - скульптор, вся его мастерская завалена гипсом. Окружающие героиню реалии типичны для прибалтийской, северной литературы: холодные шторма, снежные бури, приливы-отливы, катание на лодках и на коньках, рыбалка, долгие зимние вечера в гостиной. Представьте себе, допустим, молодую эстонскую прозу (с подражаниями Гайдару и Житкову) в журнале "Юность" или "Смена" 60-х годов. Впрочем, герои повести Янссон отмечают не Первомай, а Рождество и шведские старинные праздники. Повествование ведется в мягкой, чуть ироничной, полусказочной интонации. Вот маленькая героиня идет по берегу Финского залива: "Я иду так долго, что становлюсь длинной и тонкой, как травинка, а волосы мои превращаются в мягкую метелку какого-то растения, и в конце концов я пускаю корни и начинаю шуршать, и шелестеть, и шуметь, как все мои сестры-тростинки, и время никогда не кончается". Серьезные события в жизни девочки (например, встреча с контрабандистами) чередуются с фантазиями, шутками, наблюдениями за чудаковатыми родственниками. К примеру, за Тетушкой, любительницей мастерить бумажные коробочки со множеством отделений и украшать комнаты глянцевыми картинками…
Новеллы 70-90-х - это, за исключением первых двух, уже сугубо "взрослые" вещи. Здесь, правда, тоже хватает автобиографизма: к примеру, рассказ "Тот, кто иллюстрирует комиксы" явно навеян многолетней работой Туве Янссон в этом популярном изобразительном жанре. Сюжеты многих рассказов внутренне драматичны, но по мере развития действия назревающие конфликты всякий раз как бы "сглаживаются", уходят вглубь, чтобы там затаиться. Пожалуй, лучшая вещь во втором разделе книги - новелла "Смерть учителя гимнастики", где в диалогах ощущается дыхание метафизики, а однозначная причина самоубийства молодого педагога так и не найдена.
Андрей Мирошкин
Дворжак М. История искусства как история духа
Пер. с нем. - СПб.: Академический проект, 2001. - 336 с. - (Мир искусств). 2000 экз. (п) ISBN 5-7331-0136-9
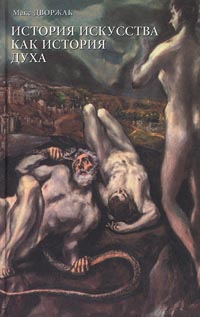 Для европейского искусствоведения австриец Макс Дворжак то же, что для русского - Бенуа или Грабарь: классик, писавший фундаментальные научные труды ясным и доступным языком. Любой, кто изучает живопись римских катакомб, творчество Эль Греко, Дюрера или Брейгеля, так или иначе "проходит" итоговую, посмертно изданную в 1924 году книгу Дворжака "История искусства как история духа". Выходила эта книга в 30-е годы и по-русски, однако в сокращенном варианте, и с тех пор не переиздавалась. Нынешнее издание - первое полное на русском языке (единственный его недостаток - плохие репродукции). Скептик и рационалист, Дворжак, по словам русского переводчика книги, "искал в искусстве мировоззрение и объяснял им форму". Его метод, отдающий социологизмом, противостоял и формалистским штудиям, и метафизическим изысканиям тех лет. Впрочем, за вульгаризацию своего метода в советском искусствознании - попытку выводить содержание искусства из главенствующих идей эпохи - Дворжак ответственности не несет.
Для европейского искусствоведения австриец Макс Дворжак то же, что для русского - Бенуа или Грабарь: классик, писавший фундаментальные научные труды ясным и доступным языком. Любой, кто изучает живопись римских катакомб, творчество Эль Греко, Дюрера или Брейгеля, так или иначе "проходит" итоговую, посмертно изданную в 1924 году книгу Дворжака "История искусства как история духа". Выходила эта книга в 30-е годы и по-русски, однако в сокращенном варианте, и с тех пор не переиздавалась. Нынешнее издание - первое полное на русском языке (единственный его недостаток - плохие репродукции). Скептик и рационалист, Дворжак, по словам русского переводчика книги, "искал в искусстве мировоззрение и объяснял им форму". Его метод, отдающий социологизмом, противостоял и формалистским штудиям, и метафизическим изысканиям тех лет. Впрочем, за вульгаризацию своего метода в советском искусствознании - попытку выводить содержание искусства из главенствующих идей эпохи - Дворжак ответственности не несет.
Андрей Мирошкин
Кестлер А. Тринадцатое колено: Крушение империи хазар и ее наследие
Пер. с англ. - СПб.: Евразия, 2001. - 320 с. - (Barbaricum). 3000 экз. (п) ISBN 5-8071-0076-Х
 Уже много веков историки разных стран удивляются: почему в VIII веке хазары, этнически тюркский народ, приняли иудейскую веру? Документы, сохранившиеся от той далекой эпохи, весьма туманны и противоречивы. Хотя, собственно, сам факт принятия хазарами иудаизма мало кто оспаривал. Английский историк и писатель Артур Кестлер решил повернуть эту проблему другой стороной. Четверть века назад он выпустил в Лондоне книгу "The Thirteenth Tribe", основанную на подлинных документальных источниках. Кестлер доказывал, будто евреи Восточной Европы - вовсе не евреи, а… дальние потомки хазар, рассеявшихся по миру после падения каганата на Волге. А раз европейские иудеи - по Кестлеру - не семиты, а тюрки, то сама идеология антисемитизма несостоятельна.
Уже много веков историки разных стран удивляются: почему в VIII веке хазары, этнически тюркский народ, приняли иудейскую веру? Документы, сохранившиеся от той далекой эпохи, весьма туманны и противоречивы. Хотя, собственно, сам факт принятия хазарами иудаизма мало кто оспаривал. Английский историк и писатель Артур Кестлер решил повернуть эту проблему другой стороной. Четверть века назад он выпустил в Лондоне книгу "The Thirteenth Tribe", основанную на подлинных документальных источниках. Кестлер доказывал, будто евреи Восточной Европы - вовсе не евреи, а… дальние потомки хазар, рассеявшихся по миру после падения каганата на Волге. А раз европейские иудеи - по Кестлеру - не семиты, а тюрки, то сама идеология антисемитизма несостоятельна.
Ныне нашумевшая книга-гипотеза издана в России. Редакторы напоминают читателям, что "искусство цитирования относится к сфере манипуляций". Поэтому некоторые цитаты, оборванные Кестлером на середине, редакторы русского издания доводят до конца (в квадратных скобках).
Андрей Мирошкин
Клемен К.Х. Жизнь мертвых в религиях человечества
Пер. с нем. и коммент. А.Е.Махова. - М.: Интрада, 2002. - 224 с. 2000 экз. (п) ISBN 5-87604-057-6
 Книги выдающегося немецкого религиоведа Карла Христиана Клемена (1885 - 1940), насколько известно, прежде не издавались на русском. Этот ученый много писал об истории Нового Завета, о религиях Востока и Запада, о различных мистических доктринах. Долгие годы преподавал в университетах Германии. В Европе Клемен известен также как издатель книжной серии "Источники по делам религии", где он опубликовал множество памятников по религиозной истории человечества. Ныне изданная книга - едва ли не самый полный свод загробных ритуалов, существовавших на земле.
Книги выдающегося немецкого религиоведа Карла Христиана Клемена (1885 - 1940), насколько известно, прежде не издавались на русском. Этот ученый много писал об истории Нового Завета, о религиях Востока и Запада, о различных мистических доктринах. Долгие годы преподавал в университетах Германии. В Европе Клемен известен также как издатель книжной серии "Источники по делам религии", где он опубликовал множество памятников по религиозной истории человечества. Ныне изданная книга - едва ли не самый полный свод загробных ритуалов, существовавших на земле.
Эту книгу Клемен писал под впечатлением Великой войны 1914 - 1918 годов, усеявшей поля Европы миллионами трупов. "Была ли жизнь дана этим жертвам войны лишь для того, чтобы возложить ее на алтарь отечества, или же она обладала и своей собственной ценностью и не кончилась со смертью, но продолжается?" - вопрошает автор. На подобные вопросы, полагает Клемен, должна отвечать сама История. Задача же ученого - изложить и разъяснить представления о загробной жизни у различных народов. Отношение к мертвым - одна из тех лакмусовых бумажек, по которым определяется и общий уровень культуры, и ее отдельные вектора. К тому же "культура смерти" помогает глубже понять духовный мир нации, уловить глубинный смысл обычаев, истолковать значение памятников искусства.
Клемен пишет в основном о материальной атрибутике смерти и погребения; его книга - не богословский трактат, а историческое исследование. Впрочем, книгу завершает теологическая глава, в которую вошли и "возражения против материализма", и рассказ о феномене переселения душ. Для немецкого ученого смерть - не сон, но реальность, опасное путешествие "на тот берег" бытия.
Из древней эпической поэзии, из мифов и религиозных памятников нам известно отношение к мертвым в главных мировых цивилизациях: Египте, Вавилоне, Греции, Риме, средневековой Европе, России… Обычаи далеких и малых народов известны куда меньше и подчас могут поразить современного читателя своей жестокостью и варварством. Так, в Камбодже и Корее буддийские жрецы расчленяли труп огромными ножами и скармливали его свиньям - в подражание Будде, кормившего тигров своей плотью. Австралийцы, "обезвреживая" мертвое тело, отрубали у него пальцы, чтобы они не могли больше держать копье… Разнообразными были и места расположения царства мертвых - в глубине моря (папуасы, эскимосы), на острове (североамериканские индейцы), на краю земли (ацтеки) и, наконец, на небесах.
В результате своих наблюдений Клемен приходит к выводу, что в загробном мире "люди должны будут воздействовать друг на друга". И далее следует закономерный нравственный вывод: тот, кто не верит в потустороннее продолжение, в трудных жизненных обстоятельствах или перед лицом смерти может легко отступить от своих убеждений: ибо "зачем продолжать свои усилия, если скоро все придет к полному концу"? Впрочем, автор все же не считает свою книгу достаточным доказательством того, что загробная жизнь существует…
Андрей Мирошкин
Компаньон А. Демон теории: Литература и здравый смысл
Пер. с фр. и предисл. С.Зенкина. - М.: Издательство им. Сабашниковых, 2001. - 336 с. 3000 экз. (п) ISBN 5-8242-0079-3
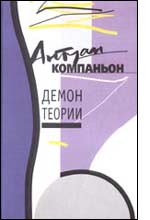 В любой стране мира, во все времена студент-филолог перво-наперво изучает теорию литературы. Потом уже на нее "нанизываются" прочие литературоведческие дисциплины. Но во всех странах (по крайней мере культурно развитых) отношение к теории литературы разное. Например, во Франции к ней вплоть до 70-х годов ХХ столетия относились немного свысока. В университетских учебных программах не было такого предмета. Даже вождь структуралистов Ролан Барт в середине 60-х отводил теории литературы весьма ограниченное место в кругу прочих филологических дисциплин; мэтр полагал, что она выполняет чисто служебную функцию - снабжает литературоведов и критиков общими терминами и понятиями и не более того. Возможно, все потому, что у французов, как принято считать, "не теоретический" ум…
В любой стране мира, во все времена студент-филолог перво-наперво изучает теорию литературы. Потом уже на нее "нанизываются" прочие литературоведческие дисциплины. Но во всех странах (по крайней мере культурно развитых) отношение к теории литературы разное. Например, во Франции к ней вплоть до 70-х годов ХХ столетия относились немного свысока. В университетских учебных программах не было такого предмета. Даже вождь структуралистов Ролан Барт в середине 60-х отводил теории литературы весьма ограниченное место в кругу прочих филологических дисциплин; мэтр полагал, что она выполняет чисто служебную функцию - снабжает литературоведов и критиков общими терминами и понятиями и не более того. Возможно, все потому, что у французов, как принято считать, "не теоретический" ум…
Прошли годы, и вот ученик Барта Антуан Компаньон (род. в 1950 г.) в книге "Демон теории" фактически реабилитировал теорию литературы, показал ее самостоятельное значение, ее сложный исторический путь, ее вариативность. На Западе выход этой книги стал настоящим событием в филологических кругах. Автор поместил теорию "на совершенно иное место - не служанки и не госпожи конкретных литературоведческих исследований, а их агрессивного, въедливого оппонента", - пишет переводчик книги Сергей Зенкин. Теория у Компаньона из нейтрально-описательной, академически застывшей дисциплины становится целостной, развивающейся тенденцией. Фактически автор выводит теорию за рамки науки, парадоксальным образом сближая ее с самой литературой. Историко-аналитический метод, объединившись с субъективно-художественным, дали необычный результат. Это книга о "демонической", противоречивой сущности литературной теории. Компаньон учит читателя быть "бдительным, подозрительным, скептичным, ироничным", ибо теория, по убеждению автора - это "школа иронии". Изящный слог, каковым написана эта, в общем, довольно специальная книга, прекрасно иллюстрирует намерения французского ученого.
По сути, это образцовое (не в узко-догматическом смысле) учебное пособие по предмету "теория литературы". Оглавление книги напоминает курс лекций. Компаньон выделяет в своей дисциплине семь основных вопросов: литература, автор, мир, читатель, стиль, история и ценность. Разумеется, в каждом разделе дан обзор теоретических концепций прошлого. Здесь и Аристотель, и Шлейермахер, и русские формалисты, и Пражский лингвистический кружок, и американская "новая критика", и, конечно же, французский структурализм (это та "Шинель", из которой вышел и Компаньон, и почти все ведущие филологи-теоретики наших дней). Правда, почему-то забыта Тартуская семиотическая школа, давшая Лотмана и Успенского. Самое интересное у Компаньона - сопоставления концепций, авторские (а потому и не всегда бесспорные) оценки, попытки найти современный, адекватный нашему времени теоретический инструментарий. Кстати, радикальные постмодернистские идеи автору не близки, он и со своим учителем Роланом Бартом порой полемизирует (особенно по вопросам догматичности и идеологичности иных бартовских тезисов). Но особенно сурово Компаньон критикует попытки возродить в наши дни позитивизм, биографизм и прочие филологические методы, потерявшие - по убеждению автора - актуальность еще в начале ХХ века.
Андрей Мирошкин
Курганов Е. Лолита и Ада
СПб.: Издательство журнала "Звезда", 2001. - 176 с. 1000 экз. (п) ISBN 5-94214-008-1
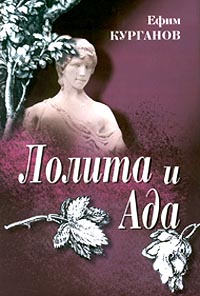 При жизни Владимира Набокова нередко обвиняли в демонизме, и вот появилось первое литературоведческое исследование на эту тему. Впрочем, ученый из Хельсинки Ефим Курганов рассматривает набоковских демонов с культурологической, а не с религиозной точки зрения. Книга Курганова состоит из двух филологических эссе, посвященных двум знаменитым романам Набокова. Эти во многом схожие книги, по мнению литературоведа, основаны на ветхозаветных демонологических апокрифах. Автор проводит параллель между Лолитой и библейской Лилит, а также между сюжетом "Ады" и древнееврейской "Книгой Еноха". Попутно Курганов выясняет, что "Лолита" построена как сквозная пародия на русский Серебряный век, "Ада" же "являет собою всеобщую историю европейских литератур, историю мотивов и сюжетных схем". Книга полна литературоведческих парадоксов и обширных экскурсов в историю религии. Поистине, комментаторы Набокова скоро сравняются в изощренности с самим автором "Лолиты".
При жизни Владимира Набокова нередко обвиняли в демонизме, и вот появилось первое литературоведческое исследование на эту тему. Впрочем, ученый из Хельсинки Ефим Курганов рассматривает набоковских демонов с культурологической, а не с религиозной точки зрения. Книга Курганова состоит из двух филологических эссе, посвященных двум знаменитым романам Набокова. Эти во многом схожие книги, по мнению литературоведа, основаны на ветхозаветных демонологических апокрифах. Автор проводит параллель между Лолитой и библейской Лилит, а также между сюжетом "Ады" и древнееврейской "Книгой Еноха". Попутно Курганов выясняет, что "Лолита" построена как сквозная пародия на русский Серебряный век, "Ада" же "являет собою всеобщую историю европейских литератур, историю мотивов и сюжетных схем". Книга полна литературоведческих парадоксов и обширных экскурсов в историю религии. Поистине, комментаторы Набокова скоро сравняются в изощренности с самим автором "Лолиты".
Андрей Мирошкин
Юнгер Ф.Г. Ницше
Пер. с нем. А.Михайловского. - М.: Праксис, 2001. - (Идеологии). - 2000 экз. (п) ISBN 5-901574-02-8
 Лишь несколько лет назад в России были опубликованы романы знаменитого немецкого прозаика Эрнста Юнгера, а теперь впервые в русском переводе вышла книга его брата, философа и поэта Фридриха Юнгера. В бурные 20-е годы братья с группой единомышленников грезили о возрождении духа нации, о "консервативной революции", и путеводной звездой в этом были для них идеи Ницше. В годы нацизма Фридрих Юнгер тихо прожил в германской провинции, подальше от гестапо, а в 1949-м, в год раздела Германии, выпустил эссе о любимом философе. Эссе написано ярко, парадоксально, это настоящий пир для эрудитов. Основная тема Ницше, по мнению Юнгера, - преодоление нигилизма, возвращение души к своим природным истокам - обладала "режущей актуальностью" именно в послевоенные годы. Но актуальность эта чисто культурологическая: никакой особой "политики" и "публицистики" в эссе Юнгера нет. И это только к лучшему: на тему "Ницше как предтеча нацизма" за полвека было сочинено множество абсолютно беспомощных конъюнктурных опусов.
Лишь несколько лет назад в России были опубликованы романы знаменитого немецкого прозаика Эрнста Юнгера, а теперь впервые в русском переводе вышла книга его брата, философа и поэта Фридриха Юнгера. В бурные 20-е годы братья с группой единомышленников грезили о возрождении духа нации, о "консервативной революции", и путеводной звездой в этом были для них идеи Ницше. В годы нацизма Фридрих Юнгер тихо прожил в германской провинции, подальше от гестапо, а в 1949-м, в год раздела Германии, выпустил эссе о любимом философе. Эссе написано ярко, парадоксально, это настоящий пир для эрудитов. Основная тема Ницше, по мнению Юнгера, - преодоление нигилизма, возвращение души к своим природным истокам - обладала "режущей актуальностью" именно в послевоенные годы. Но актуальность эта чисто культурологическая: никакой особой "политики" и "публицистики" в эссе Юнгера нет. И это только к лучшему: на тему "Ницше как предтеча нацизма" за полвека было сочинено множество абсолютно беспомощных конъюнктурных опусов.
Андрей Мирошкин
Новарина В. Сад признания: Пьеса; Луи де Фюнесу. Вхождение в слуховой театр: Эссе
пер. с фр. - М., ГИ, 2001. - 216 с. 1500 экз. (п) ISBN 5-94282-032-5
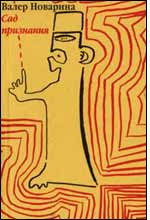 В России новый язык создавал поэт Алексей Крученых, во Франции - драматург Валер Новарина. По сравнению с его сочинениями пьесы Беккета и Ионеско - образцы классической ясности и логики. Поначалу опусы Новарина никто не хотел печатать, а сегодня он - один из наиболее репрезентативных французских авторов. В позапрошлом году драматург участвовал в престижном фестивале "Французская литературная весна" в Москве. Первая российская книга Новарина включила пьесу "Сад признания" и два программных эссе. Предваряет сборник большая статья Екатерины Дмитриевой о жизненном и творческом пути скандально известного француза. На Западе Новарина давно признан корифеем современного театра. Его пьесы рассматривают как продолжение мольеровских фарсов и теологических мистерий Паскаля. Его "алхимический" язык развивает традиции Рабле и сюрреалистов, а в театральных постановках слышны отзвуки эстетических концепций Брехта и Арто. Каждая его новая пьеса приводит в восторг авангардистскую тусовку Парижа и шокирует ретроградов. Слуховой театр Новарина уже вошел во все учебники по современному искусству.
В России новый язык создавал поэт Алексей Крученых, во Франции - драматург Валер Новарина. По сравнению с его сочинениями пьесы Беккета и Ионеско - образцы классической ясности и логики. Поначалу опусы Новарина никто не хотел печатать, а сегодня он - один из наиболее репрезентативных французских авторов. В позапрошлом году драматург участвовал в престижном фестивале "Французская литературная весна" в Москве. Первая российская книга Новарина включила пьесу "Сад признания" и два программных эссе. Предваряет сборник большая статья Екатерины Дмитриевой о жизненном и творческом пути скандально известного француза. На Западе Новарина давно признан корифеем современного театра. Его пьесы рассматривают как продолжение мольеровских фарсов и теологических мистерий Паскаля. Его "алхимический" язык развивает традиции Рабле и сюрреалистов, а в театральных постановках слышны отзвуки эстетических концепций Брехта и Арто. Каждая его новая пьеса приводит в восторг авангардистскую тусовку Парижа и шокирует ретроградов. Слуховой театр Новарина уже вошел во все учебники по современному искусству.
Андрей Мирошкин
Ролен О. Пейзажи детства: Эссе
пер. с фр. Т.Баскаковой. - М.: Издательство Независимая Газета, 2001. - 208 с. - (Литературоведение). 3000 экз. (п) ISBN 5-86712-085-6
 Появлению этой книги французский журналист и писатель Оливье Ролен обязан, по его собственному признанию, парижской газете "Монд" и президенту Заира Лорану Кабиле. Первая предложила французу написать литературный репортаж, повторив по реке Конго маршрут, проделанный героем известной повести Джозефа Конрада "Сердце тьмы" (это по ее мотивам Коппола снял свой "Апокалипсис"); второй, доведя свою страну до войны, лишил путешественника надежд на удачное завершение маршрута. Пришлось Ролену "обратиться к иным горизонтам". Француз задумал книгу о знаменитых писателях, родившихся в 1899-м - то есть ровно за сто лет до возникновения замысла. Книги Хемингуэя, Набокова, Борхеса, Мишо и Кавабаты Ролен любил давно, но тут он решил посетить их родные края, дабы увидеть "пейзажи детства" - места, "связанные с годами первичного опыта". Пять классиков - пять городов: Чикаго, Петербург, Буэнос-Айрес, Брюссель и Осака. Пять паломничеств, пять стран, пять разных культур, пять эссе. Плюс одно синтезирующее эссе в эпилоге. Так, собственно, и возник цикл эссе, вышедший сначала в "Монде", а теперь и на русском.
Появлению этой книги французский журналист и писатель Оливье Ролен обязан, по его собственному признанию, парижской газете "Монд" и президенту Заира Лорану Кабиле. Первая предложила французу написать литературный репортаж, повторив по реке Конго маршрут, проделанный героем известной повести Джозефа Конрада "Сердце тьмы" (это по ее мотивам Коппола снял свой "Апокалипсис"); второй, доведя свою страну до войны, лишил путешественника надежд на удачное завершение маршрута. Пришлось Ролену "обратиться к иным горизонтам". Француз задумал книгу о знаменитых писателях, родившихся в 1899-м - то есть ровно за сто лет до возникновения замысла. Книги Хемингуэя, Набокова, Борхеса, Мишо и Кавабаты Ролен любил давно, но тут он решил посетить их родные края, дабы увидеть "пейзажи детства" - места, "связанные с годами первичного опыта". Пять классиков - пять городов: Чикаго, Петербург, Буэнос-Айрес, Брюссель и Осака. Пять паломничеств, пять стран, пять разных культур, пять эссе. Плюс одно синтезирующее эссе в эпилоге. Так, собственно, и возник цикл эссе, вышедший сначала в "Монде", а теперь и на русском.
Жанр литературного путешествия-эссе в наши дни не такая уж редкость. Пару лет назад Петр Вайль написал книгу "Гений места", где каждому знаменитому городу мира соответствовал какой-то классик литературы и искусства. Но если Вайль запихивал в свою эссеистику что угодно - от живописи Карпаччо до сортов голландской сельди, то Ролен ограничил свой интерес "истоками" творчества писателей-юбиляров. Маршруты путешествия француза, по его признанию, "пересекают тексты, пространства и эпохи". Недаром француз повсюду возил с собой в багаже стопки книг.
Начальный этап каждого роленовского паломничества - визит в мемориальный музей писателя, знакомство с детскими фотографиями, чтение газет, вышедших в день появления на свет будущего классика. И уж потом - сопоставление духа города (и даже квартала) с духом литературы, поиск таинственных точек соприкосновения этих двух миров. Далеко не у всех из "великолепной пятерки", отмечает Ролен, сложились счастливые отношения со своим собственным детством и с родным городом. Хемингуэй не любил Оук-Парк (чопорный пригород Чикаго, где он родился), Анри Мишо открыто презирал родную Бельгию, слишком провинциальную для него страну, которую населяет "народ с лоснящимися носами". У Набокова и Борхеса память о "пейзажах детства" было подернута легкой романтической дымкой: оба юношами покинули родину, но до конца дней "черпали из воспоминаний об этих местах контуры, краски, ассоциации, даже темы для построения своих великих фантазий". Для обоих, впрочем, родина прочно ассоциировалась не только с детством в прошлом, но и с диктатурой в настоящем. И оттого приобретала еще более призрачные черты. Для Ясунари Кавабаты решающее значение, по Ролену, имело сиротство, с детства привившее писателю "что-то болезненное, извращенное". Кавабата ассоциируется у эссеиста с похоронными церемониями, Хемингуэй - с форелью, Борхес - с тиграми и энциклопедиями, Мишо - с кроватями, Набоков… нет, не с бабочками, а с пассажирским поездом. Вокруг каждой из этих ассоциаций строится сюжет эссе, обрастающий по ходу текста разнообразными бытовыми подробностями, неожиданными совпадениями и психобиографическими версиями.
В завершающем книгу эссе Ролен протягивает между пятью писателями связующие нити, в том числе и метафизические. Известно, что Набоков ругательски ругал Хемингуэя и превозносил Борхеса, который, в свою очередь, был неплохо лично знаком с Мишо (и пользовался взаимной симпатией), а, допустим, Кавабату с Хемигуэем связывало нобелиатство и самоубийство... Отыскивает эссеист и непосредственные текстовые влияния одного классика на другого, хотя не все они читали тексты каждого из остальных четверых (вот такой лабиринт). И даже Борхес, кажется, не читал романов Набокова - несмотря на то, что в его "Вавилонской библиотеке" хранились абсолютно все книги мира.
Андрей Мирошкин
Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму
Пер. с фр. - М.: ИГ "Прогресс", 2000. - 536 с. 3000 экз. (о) ISBN 5-01-004663-6
 На рубеже веков принято подсчитывать всевозможные культурологические "измы". Если ХIХ век одарил человечество романтизмом и натурализмом, то минувшее столетие оставило о себе память в виде двух собратьев-соперников, зародившихся во Франции - структурализма и постструктурализма. Имена их лидеров - Деррида, Лакан, Леви-Стросс, Кристева - звучат для российских интеллектуалов такой же волшебной музыкой, как для русских декадентов века - имена Бодлера, Ницше, Малларме. Если структурализм, чей расцвет пришелся на 60-е, "отменил" автора, то постструктурализм объявил войну на два фронта - и против структуры, и против автора как против двух "агентов логоса". Об этом пишет известный культуролог Георгий Косиков в предисловии к антологии, включившей работы классиков французской семиотики во главе с "отцом структурализма" Роланом Бартом. Многие работы на русском публикуются впервые, а обложку книги, конечно же, украсила репродукция картины Дали - прародителя всех авангардных "измов" ушедшего века.
На рубеже веков принято подсчитывать всевозможные культурологические "измы". Если ХIХ век одарил человечество романтизмом и натурализмом, то минувшее столетие оставило о себе память в виде двух собратьев-соперников, зародившихся во Франции - структурализма и постструктурализма. Имена их лидеров - Деррида, Лакан, Леви-Стросс, Кристева - звучат для российских интеллектуалов такой же волшебной музыкой, как для русских декадентов века - имена Бодлера, Ницше, Малларме. Если структурализм, чей расцвет пришелся на 60-е, "отменил" автора, то постструктурализм объявил войну на два фронта - и против структуры, и против автора как против двух "агентов логоса". Об этом пишет известный культуролог Георгий Косиков в предисловии к антологии, включившей работы классиков французской семиотики во главе с "отцом структурализма" Роланом Бартом. Многие работы на русском публикуются впервые, а обложку книги, конечно же, украсила репродукция картины Дали - прародителя всех авангардных "измов" ушедшего века.
Андрей Мирошкин
Стайн Г. Автобиография Элис Б. Токлас. Пикассо. Лекции в Америке
Пер. с англ. - М.: Б.С.Г.-Пресс, 2001. - 607 с. 5000 экз. (п) ис. 5-93381-048-7
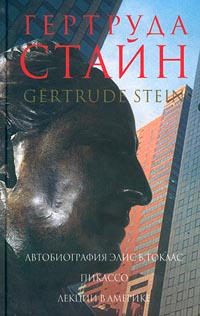 Экспериментальная, "темная" проза Гертруды Стайн труднопереводима на русский язык, поэтому и книг ее в России выходило немного. Зато вот "Автобиографии Элис Б.Токлас" в этом смысле повезло: она за год с небольшим вышла в разных русских переводах дважды - в "ИНАПРЕСС" и вот теперь в "Б.С.Г.-Пресс". Именно это произведение в 1933 году превратило Стайн из полубезвестного, "непонятного" автора в звезду литературного мира. Стилистическую гладкость публика приняла за долгожданный поворот к "широкому читателю". Ну и, конечно, сыграли роль колоритные "портреты" знаменитостей, в основном художников-модернистов: Матисса, Пикассо, Брака… Но бестселлер, как водится у Стайн, оказался "с ключом". Позднее исследователи отыскали в "Автобиографии…" фрейдизм, феминизм и еще много всякого, вплоть до пресловутой идеи "двойничества". Ведь Элис Токлас - это реально существовавший человек, подруга и секретарь Гертруды Стайн, ее "отражение" и "соавтор". Тут, поистине, есть о чем поразмыслить и ккультурологам, и философам (не случайно нынешнее издание завершает статья Елены Петровской).
Экспериментальная, "темная" проза Гертруды Стайн труднопереводима на русский язык, поэтому и книг ее в России выходило немного. Зато вот "Автобиографии Элис Б.Токлас" в этом смысле повезло: она за год с небольшим вышла в разных русских переводах дважды - в "ИНАПРЕСС" и вот теперь в "Б.С.Г.-Пресс". Именно это произведение в 1933 году превратило Стайн из полубезвестного, "непонятного" автора в звезду литературного мира. Стилистическую гладкость публика приняла за долгожданный поворот к "широкому читателю". Ну и, конечно, сыграли роль колоритные "портреты" знаменитостей, в основном художников-модернистов: Матисса, Пикассо, Брака… Но бестселлер, как водится у Стайн, оказался "с ключом". Позднее исследователи отыскали в "Автобиографии…" фрейдизм, феминизм и еще много всякого, вплоть до пресловутой идеи "двойничества". Ведь Элис Токлас - это реально существовавший человек, подруга и секретарь Гертруды Стайн, ее "отражение" и "соавтор". Тут, поистине, есть о чем поразмыслить и ккультурологам, и философам (не случайно нынешнее издание завершает статья Елены Петровской).
Казалось бы, что нам до богемного Парижа 1910-20-х годов, до всех этих салонов и ателье, описанных в "Автобиографии…" и в очерке "Пикассо"? Но все равно чтение увлекает, затягивает. И постепенно становится ясно, почему: Стайн пишет об эпохе, хронологически совпавшей с нашим Серебряным веком. И у нас, и у французов в этот период - мощные таланты, целое поколение титанов искусства. Невольное сравнение двух культурных ренессансов напрашивается само собой. И хотя книга Гертруды Стайн - не воспоминания в строгом смысле, "Автобиография…" очень удачно "накладывается" на "серебряную" мемуаристику русских писателей и художников. Россия и Франция как бы всматриваются друг в друга, ища сходство.
Но есть еще Америка. О родине Гертруды Стайн напоминает название включенных в книгу "Лекций…". В 1934 году писательница провела большое лекционное турне в Америке, куда не приезжала тридцать лет. Как и у многих выдающихся писателей, лекции Стайн - больше, чем просто лекции, это творческое кредо писательницы, ее, если угодно, литературный манифест.
Андрей Мирошкин
Чосер. Д. Троил и Крессида; Хенрисон Р. Завещание Крессиды; Шекспир У. Троил и Крессида
Пер. с англ.; Отв. ред. А.Н.Горбунов. - М.: Наука, 2001. - 752 с. - (Литературные памятники). 1340 экз. (п) ISBN 5-02-022520-7
 История Троянской войны не один десяток веков волнует воображение сочинителей - от Гомера до Джойса. Вариациям, подражанием, пародиям и мистификациям несть числа. Каждая эпоха толковала Гомера на свой лад. Кого-то в "троянском" сюжете привлекали батальные сцены, кого-то - лирические коллизии. В Средние века возникла легенда о любви троянского царевича Троила (сына Приама) и Крессиды, дочери жреца Калхаса, сбежавшего к грекам. Легенда, с гомеровской "Илиадой" ничего общего уже не имевшая, стала всемирным литературным мифом, своего рода "архетипом" мужской верности и женского непостоянства.
История Троянской войны не один десяток веков волнует воображение сочинителей - от Гомера до Джойса. Вариациям, подражанием, пародиям и мистификациям несть числа. Каждая эпоха толковала Гомера на свой лад. Кого-то в "троянском" сюжете привлекали батальные сцены, кого-то - лирические коллизии. В Средние века возникла легенда о любви троянского царевича Троила (сына Приама) и Крессиды, дочери жреца Калхаса, сбежавшего к грекам. Легенда, с гомеровской "Илиадой" ничего общего уже не имевшая, стала всемирным литературным мифом, своего рода "архетипом" мужской верности и женского непостоянства.
Известна ранняя поэма Джованни Боккаччо на этот сюжет. А вот в Британии Троила и Крессиду воспели сразу три национальных классика - Джеффри Чосер, Уильям Шекспир и Роберт Хенрисон (последнего называют лучшим шотландским поэтом до Бёрнса). Творение Чосера - по сути, вольный перевод поэмы Боккаччо. Англичанин, впрочем, кое-что сократил у итальянца, и добавил немало от себя. Получилась вещь, более связанная с историческим контекстом и более философичная, чем у Боккаччо. Спустя сто лет свою версию легенды создал Хенрисон, его поэма задумывалась как продолжение чосеровской. Но шотландец подбавил в сюжет мрачности и безысходности, поиздевавшись заодно над "куртуазной" любовью Троила. Наконец, еще через столетие на старинную историю замахнулся сам Шекспир. Его греки и троянцы говорят как люди ХVI века, а монолог Улисса по философской проблематике выдерживает сравнение с гамлетовским "Быть или не быть?". Ныне три знаменитых поэмы впервые изданы по-русски под одной обложкой.
Андрей Мирошкин
Ханзен-Лёве Оге А. Русский формализм: Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения
Пер. с нем. С.А.Ромашко. - М.: Языки русской культуры, 2001. - 672 с. (Studia philologica). 1200 экз. (п) ISBN 5-7859-0094-7
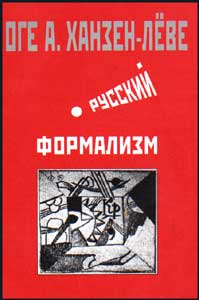 В конце 20-х формализм был в основном задушен в СССР, и осмысление его трудов происходило в основном за рубежом. Первые фундаментальные работы об истории движения тоже вышли на Западе. Едва ли не самую солидную монографию о формализме написал австрийский литературовед Ханзен-Лёве (создатель "Венского славистического альманаха", автор многих статей и книг по истории российского авангарда).
В конце 20-х формализм был в основном задушен в СССР, и осмысление его трудов происходило в основном за рубежом. Первые фундаментальные работы об истории движения тоже вышли на Западе. Едва ли не самую солидную монографию о формализме написал австрийский литературовед Ханзен-Лёве (создатель "Венского славистического альманаха", автор многих статей и книг по истории российского авангарда).
Даже последних сомневающихся книга окончательно убеждает в том, что формализм - воистину нестареющее филологическое учение. Все они предвидели, обо всем догадывались: и о Курицыне, и об Акунине, и о Сорокине. Кризис большой романной формы, реабилитация "периферийных" жанров, расцвет "цитатности" как универсального остраняющего приема… Чего ни хватишься - все у них есть! Вот почему издатели наших дней так любят переиздавать забытые работы Шкловского и К°.
Андрей Мирошкин
Эткинд А. Толкование путешествий: Россия и Америка в травелогах и интертекстах
М.: Новое литературное обозрение, 2001. - 496 с. - (Научная библиотека). 3000 экз. (п) ISBN 5-86793-145-5
 Сектантство, фрейдизм, причуды Серебряного века, пересечение литературы и сексуальности - вот основные темы предыдущих книг Александра Эткинда, неизменно становившихся модным чтением в гуманитарных кругах. Новая его книга (о российско-американских сближениях, контактах и прочих неожиданных параллелях) уже своим названием "перемигивается" с Фрейдом. Венский доктор толковал сновидения; почему бы петербургскому филологу не заняться истолкованием собственных путешествий - "из Ленинграда в Петербург с заездами в другие столицы и провинции". Фирменные черты Эткинда - эрудиция, увлекательность и интерес к "эрогенным" темам в литературе - проявились и в новом его сочинении. Свой метод автор называет "новый историзм" (обоснованию термина посвящена специальная глава-манифест).
Сектантство, фрейдизм, причуды Серебряного века, пересечение литературы и сексуальности - вот основные темы предыдущих книг Александра Эткинда, неизменно становившихся модным чтением в гуманитарных кругах. Новая его книга (о российско-американских сближениях, контактах и прочих неожиданных параллелях) уже своим названием "перемигивается" с Фрейдом. Венский доктор толковал сновидения; почему бы петербургскому филологу не заняться истолкованием собственных путешествий - "из Ленинграда в Петербург с заездами в другие столицы и провинции". Фирменные черты Эткинда - эрудиция, увлекательность и интерес к "эрогенным" темам в литературе - проявились и в новом его сочинении. Свой метод автор называет "новый историзм" (обоснованию термина посвящена специальная глава-манифест).
Слова "Россия" и "Америка", поставленные рядом, способны породить множество ассоциаций, в том числе и злободневно-политических. Однако современность остается за бортом исследования Эткинда: как историк культуры, он анализирует травелоги (описания путешествий) и интертексты начала ХIХ - середины ХХ века. Уже во введении автор предлагает эффектную подборку фактов и цитат: Россия и Америка никогда не были между собой в состоянии войны, Хайдеггер в 30-е годы называл большевизм "вариантом американизма", в 1919-м Ленин обещал разделить Россию на дюжину частей в обмен на признание Советов президентом Вильсоном…
Но начиналось всё, как водится, во времена Пушкина. Французский юрист Алексис де Токвиль написал в ту пору книгу "Демократия в Америке", вызвавшую бурные споры в Европе, в том числе и в России. В книге фактически предсказано соперничество двух сверхдержав, радикально различающихся своим политическим устройством: "В Америке в основе всякой деятельности лежит свобода, в России - рабство. У них разные истоки и разные пути, но очень возможно, что Провидение втайне уготовило каждой из них стать хозяйкой половины мира". Вообще, по Эткинду, Россия начала ХIХ века была полна "трансатлантических ассоциаций". Император переписывался с отцом заокеанской демократии Джефферсоном, декабрист Рылеев служил в Российско-американской компании, картежник и дуэлянт Федор Толстой не без гордости носил прозвище Американец… В записках Пушкина сохранились полемические отзывы о книге Токвиля: поэт полагал, что России необходима иная, отличная от Америки, форма гражданской свободы.
Пушкинская эпоха сменяется эрой нигилизма и почвенничества. Важнейшую "закадровую роль" в романах "Что делать?" и "Бесы", по наблюдению Эткинда, играет опять-таки Америка. А все потому, что Чернышевский был в 60-е не англофилом и даже не галломаном (как большинство русских западников), а настоящим "американистом". Герои его культового романа уезжают за океан и там благополучно решают свои проблемы. Достоевский же, "с ненавистью" (слова Эткинда) перечитывая в 1871-м роман Чернышевского, изобразил Шатова и Кириллова недавно вернувшимися из Америки. Оба "возвращенца" погибают, подтверждая принцип великого писателя: Америка смертельно опасна для русского человека.
После Октября "американский текст советской литературы" создавали Есенин, Маяковский, Пильняк, Ильф и Петров. Все (кроме, пожалуй, Пильняка) завидовали развитой технике американцев и иронизировали по поводу унылой буржуазности повседневного бытия. Как главную достопримечательность тех лет, писатели из СССР посещали конвейер Форда. То были времена "советского американизма": одних только инженеров из США на стройках пятилетки работало не менее 10 тысяч человек. (Это потом из соображений патриотизма умалчивали, что Днепрогэс спроектирован заокеанскими "технарями", а первые советские грузовики были точными копиями американских машин.) Многие "левые" писатели из Штатов наведывались в сталинскую Россию и с восхищением писали об увиденном.
В те же годы начиналось трансокеанское соперничество Набокова и Пастернака, о котором - самая обширная глава книги. Травелогов здесь нет, зато интертекстов - сколько угодно. Ведь даже Набоков-старший был застрелен в Берлине именно в момент чтения лекции "Америка и восстановление России"…